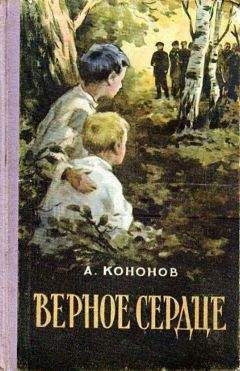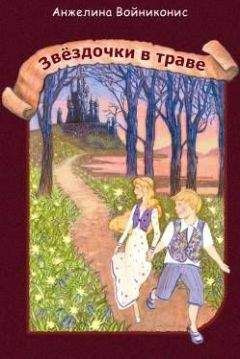— Ходу! — прошептал Гриша.
И мальчишки побежали на цыпочках по траве подальше от опасного места.
Они бежали долго, пока не засияли на солнце мелкие радужные стекла парников; там уже конец сада. За парниками сидели на большом пне две дочки Перфильевны: одна чуть поменьше другой, обе в одинаковых розовых платьицах, с большими бантами на макушках. Они испуганно смотрели на приближавшихся мальчишек. Но Грише было не до помещичьих дочек: неподалеку, у самого пня, стоял знаменитый конь. Вот это был конь! Ростом почти с Собакевича, с рыжими ногами, упершимися в дубовую доску на колесиках, с сивой гривой из настоящего конского волоса и таким же хвостом. И настоящее кожаное седло, желтое седло с железными стременами, было на этом коне.
— Там Ирма! — постращал Гриша на всякий случай девочек, кивнув в сторону аллеи.
Ну разве мыслимо, чтобы ему дали когда-нибудь хоть разок прокатиться на таком коне! Да он и сам никому не дал бы. А девчонкам, хоть и богатым, — зачем девчонкам конь? Они его за собой на веревочке водят, смех один.
Девочки сидели на пне смирно, прижавшись одна к другой, боялись: мальчишки — опасные люди…
— Ну, чего вы, в самом деле, — пробормотал Гриша осевшим от волнения голосом: — не бойтесь, дайте прокатиться разок.
Просьба была безрассудной, он сам это знал и все-таки взялся несмело за кожаную узду, украшенную блестящими медными пуговками.
Старшая девочка нахмурила тоненькие брови, но ничего не сказала.
— Мы разок, мы сейчас, — заторопился Гриша, — мы с косогора разок… И мигом вернемся.
Он ухватил коня за лакированные бока, сделал два шага и оглянулся. Девочки по-прежнему сидели, опасливо взявшись за руки. А Ян, не отставая ни на шаг, шел за Гришей.
Они дошли до того угла в саду, где в изгороди был пролом, прикрытый доской и известный одному Грише да, может быть, еще деревенским ребятам, бесстрашно лазившим в помещичий сад летом за клубникой, осенью — за яблоками.
Мальчики сперва просунули в пролом коня, потом вылезли сами.
— Ну, теперь к крыжу, — зашептал Гриша, хотя кругом никого не было; он уже видел себя на лихом коне, несущимся вниз по пыльной дороге.
Мальчики дали крюку, чтобы никто из усадьбы их не увидал, и торопливо зашагали межой по ржаному полю; от травы к натруженным за день босым ногам уже шла чуть слышная вечерняя прохлада, когда они выбрались на косогор, к тому месту, где Ян с отцом проехали сегодня на телеге.
Их и в самом деле никто не увидал… кроме голенастой Кати; она сидела сейчас на огородном тыну и зорко глядела на мальчишек.
Это, конечно, было не к добру. Но статный конь с широкими раздутыми ноздрями уже ждал их, и, подталкивая друг друга, приговаривая «садись-садись», они взобрались вдвоем на восхитительно пахнувшее кожей скрипучее седло. Гриша подобрал поводья, оглянулся на Катю и изо всех сил толкнул землю обеими пятками. Конь с двумя всадниками загремел по крутой дороге вниз…
Он летел все быстрей, с таким грохотом и креном набок, что Ян не вытерпел, соскочил загодя в канаву, а Гриша держался в седле до самого конца. Беда случилась на том самом камне, где грелись не так давно лягушки.
Уже падая от страшного удара, Гриша почуял: с конем несчастье.
Долго стояли мальчики над лежавшим в пыли конем и не решались к нему притронуться. Наконец Гриша, обманывая сам себя, попробовал стереть с него пыль — может, все еще обойдется… Левая нога у коня бессильно упала с дубовой доски… Они начали вдвоем прилаживать эту ногу на старое место; нога вяло падала, как будто сделанная из ваты.
Ян посмотрел на Гришу и сказал уверенно:
— Бить будут.
— Ты соскочил раньше, — рассердился Гриша, — хитрый! Значит, это я покалечил коня? Скажешь, что это я?
— Не.
— Скажешь!
— Не.
И по его тону Гриша понял: нет, не выдаст Ян…
Травой и рукавами своих рубашек они все-таки стерли дорожную пыль с разбитого коня. Как будто это могло помочь! Потом, держась вдвоем за дубовую доску, печально понесли коня к усадьбе, мимо огородного тына, на котором все еще сидела Катя и тревожно глядела на них.
То, что случилось потом, поразило Гришу своей жестокостью.
Август Редаль, отец Яна, при всех велел сыну:
— Иди нарви лозин!
Он сказал это дважды: по-латышски и по-русски.
Неподалеку стояли работник Минай, Катин отец, старый Трофимов, арендатор пан Пшечинский, а у крыльца — сама Перфильевна с дочками.
Ян молча, с сухими глазами, пошел к сажалке — ломать прутья.
Редаль спокойно говорил:
— Ту лозину кинь: она сухая, сломается. Выбирай, которая покрепче.
Потом он порол сына, и все глядели на это. Гришу начала трясти незнакомая ему до того мелкая неодолимая дрожь.
Сколько времени это продолжалось? Ян не кричал, молча давился плачем.
Наконец Перфильевна подошла ближе и велела:
— Не бей больше. Ладно. За игрушку десять рублей плачено, их розгой не выбьешь.
— Я верну вам эти деньги, — ответил Редаль.
Он сказал это гордо, подняв голову. И что-то в его голосе, видно, пришлось не по сердцу Перфильевне.
— «Ферну эти теньги»! — передразнила она и, сердито плюнув, ушла.
Она всегда плевалась, когда ее рассердят. Она часто кричала на всю усадьбу со своего резного крыльца — плевалась и кричала на арендаторов, панов Пшечинских, на испольщиков, на Гришиного отца. Щеки у нее тогда становились румяными, глаза темнели. На Перфильевне был нарядный фартук в полоску, с наплечниками в сборках, как эполеты французского барабанщика из книги «Бабушкины полдники».
Ян молча застегивал штаны. Редаль закричал ему по-латышски:
— Эй тулин уз маям, палайдны! — И повторил по-русски: — Иди домой, озорник!
Тут прибежала с огорода Гришина мать и, еще не разобрав как следует, что случилось, рывком схватила сына, потащила к дому. Ну разве ж те колотушки, что достались Грише, можно сравнить с казнью лесникова сына!
Правда, спина у Гриши долго ныла от материнских тумаков. Спина еще ныла, когда он прибежал — уже под вечер — в избу лесника. Окна в избе были маленькие, стекла в них — почти черные от старости и долголетней пыли. Легкий звон висел в этой темной избе: мухи, звеня, бились в стекла — просились на волю.
Августа Редаля не было дома. На земляном полу сидел Ян и плакал.
Гриша опустился рядом с ним и жарко зашептал:
— Не плачь… Давай убежим… Уйдем далеко-далеко, хочешь?
Ян не отвечал.
— Хочешь, пойдем искать Железный ручей?
Ян вытер слезы и сказал:
— Уйдем к лесным братьям…
С недавних пор в усадьбе часто говорили про лесных братьев, и всегда вполголоса, оглядываясь. А то и шепотом.
И все-таки Гриша словно видел их: идут братья по лесу, высокие, кудрявые, похожие друг на друга. И за поясом у каждого — острый топор. Идут братья по лесу, никого не боятся…
Открылась дверь, на пороге показался Август Редаль, и Гриша, нырнув ему под руку, спасся бегством: он боялся теперь этого неторопливого человека.
Домой ему не хотелось. Он остановился у колодезного журавля, откуда далеко было видно и поле, и лес за полем, и уже широко разлившийся над лесом закат.
Розовая пыль клубилась на дороге. В пыли сверкнули серебряные спицы. Ну конечно, это Шпак ехал на своем велосипеде.
Шпаком звали в округе учителя Шпаковского из местечка Ребенишки. У него до августа свободная жизнь — школа закрыта, — он и ездит повсюду, счастливый. Вот кому можно позавидовать!
Только бабушка, увидав в первый раз велосипед, сказала с укоризной:
— Какая ж это езда? Один зад, прости господи, сидит, а ноги-то бегают.
Ну, это потому, что бабка отреклась от мирских радостей.
Кто не отрекся, тот такой езде позавидует, пусть даже ноги и бегают.
Шпаковский пропылил было мимо колодца, но увидал Гришу, затормозил и соскочил с велосипеда. Он попрыгал на длинной ноге в штанине, заколотой внизу булавкой, и хитро прищурился:
— Сеньор, родитель ваш дома?
Вот всегда он так разговаривает.
Гриша ответил неласково:
— Давеча в саду был…
Шпаковский вытер лоб белым платком, вынул из пиджака, из верхнего карманчика, гребешок и со вкусом, не торопясь расчесал свои казацкие усы.
— Тогда произведем рекогносцировку.
Зачем Шпак говорит эти непонятные слова? Скорей всего, в насмешку над Гришей.
Счастливый, он повел за собой свою великолепную, сверкающую машину. А за садовой изгородью уже показался отец с граблями в руках. Он весело потряс над головой картузом — радовался приезду гостя.
Вот уже и самоварной трубой гремят в сенях у Шумовых. Это мать готовится угощать Шпаковского.
Странная дружба была у отца с учителем. Образование было у них разное, и судьба разная, и родом они были из разных мест, а задушевный разговор могли вести друг с другом хоть до вторых петухов и договаривались до того, что мать начинала кричать на отца: «Не нашего это ума дело!»