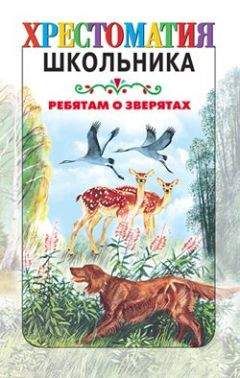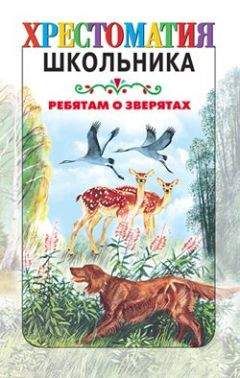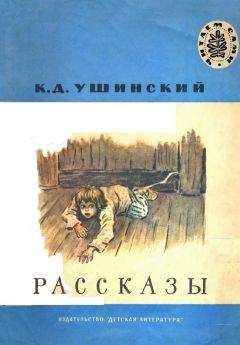Лев тронул ее лапой и перевернул.
Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.
Лев смотрел на собачку, поворачивая голову со стороны на сторону, и не трогал ее.
Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.
Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него, положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.
Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал.
Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой.
Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.
Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачонку, но лев никого не подпускал к ней.
Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал пять дней.
На шестой день лев умер.
(Рассказ офицера)У меня была мордашка. Ее звали Булькой. Она была вся черная, только кончики передних лап были белые.
У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней и верхние зубы заходят за нижние; но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперед, что палец можно было заложить между нижними и верхними зубами. Лицо у Бульки было широкое; глаза большие, черные и блестящие; и зубы и клыки белые всегда торчали наружу. Он был похож на арапа. Булька был смирный и не кусался, но он был очень силен и цепок. Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повиснет, как тряпка, и его, как клещука, нельзя никак оторвать.
Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но не мог оторвать и повалился на голову, чтобы раздавить Бульку; но Булька до тех пор на нем держался, пока его не отлили холодной водой.
Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал служить на Кавказ, я не хотел брать его и ушел от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться в другую перекладную, как вдруг увидел, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это был Булька в своем медном ошейнике. Он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он то втягивал его назад, глотая слюни, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился, не поспевал дышать, бока его так и прыгали. Он поворачивался с боку на бок и постукивал хвостом о землю.
Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна и прямо, по моему следу, поскакал по дороге и проскакал так верст двадцать в самый жар.
Раз, сидя на окошке, услышал я какой-то жалобный визг в саду.
Мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтоб послали посмотреть, кто это плачет, что «верно, кому-нибудь больно», мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого щенка, который, весь дрожа и нетвердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька.
Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем.
Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучила его лакать.
С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой.
Его назвали Суркой.
Он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.
Заметив гнездо какой-нибудь птички, чаще всего зорьки или горихвостки, мы всякий раз ходили смотреть, как мать сидит на яйцах.
Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветки барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие-маленькие, пестренькие яички.
Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью.
Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей, с жалобным тихим писком беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червяками… Боже мой, какая была у нас радость!
Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и наконец покидали свое гнездо.
Прибавились значительно дни. Ярче, прямее стали солнечные лучи, и сильно пригревает в полдень. Потемнела полосами белая пелена снега, и почернели дороги. Вода показалась на улицах…
Прилетная птица начинает понемногу показываться. Грачи, губители высоких старых дерев, красоты садов и парков, прилетели первые и заняли свои обыкновенные летние квартиры, самые лучшие березовые и осиновые рощи. Уже начали заботливые хозяева оправлять свои старые гнезда новыми материалами, ломая для того крепкими беловатыми носами верхние побеги древесных ветвей. Далеко слышен их громкий, докучный крик, когда ввечеру, после дневных трудов, рассядутся они всем собором, всегда попарно, и как будто начнут совещаться о будущем житье-бытье.
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи — и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и, весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти.
Он кинулся спасать, он заслонил собою свое детище… но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!
Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу.
Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговея.
Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.
Лопаются почки на деревьях, вылезает из земли молодая травка. Зеленеет лес с головы до пяток. Сотнями, тысячами прилетают птички с юга. Песни их льются раскатами в лесной чаще. Все ожило, все проснулось, все вылезло наружу; кипучая деятельность идет в лесу. Кто отъедается после зимней голодовки, иной поет целый день от радости. Другие хлопочут уже над гнездами для своей будущей семьи. Отставать ли белочке от лесного народа? Поела она свежих листочков и принялась за гнездо. И какое гнездо! Вы диву дадитесь, если найдете его. Из сухих прутиков высоко на дереве, на ветвях около ствола, она смастерит настоящий домик с полом, стенами и крышей. Сбоку сделает входную дверь, а над ней пристроит навес, чтобы дождик не попадал в горенку. Вместо ковров она настелет внутри мохом и лишаями, чтобы было мягко и тепло ее деткам.
В старых же лиственных лесах, в столетних дубах, липах и осинах, вязах так много дупл, что белочке нечего и трудиться строить домик, и она преспокойно поселяется в этих дуплах.
Вскоре у белочки заводится и семья, в ее гнездышке от четырех — семи крошечных слепых бельчаток. Белочка очень нежная мать и усердно кормит их молочком. Пройдет дней восемь, у бельчаток откроются глазки, тельце их обрастет шерстью, но бедняжки еще очень слабы и беспомощны. Однако пройдет еще какая-нибудь неделя, они уже значительно выросли, окрепли и начинают выглядывать из гнезда. Что это за милочки, вы представить себе не можете! Рыженькая шерстка их так и блестит. Хвостик еще не распушился как следует. Вот в это-то время их надо достать, если вы хотите, чтобы у вас были совсем ручные белки. В это время они еще доверчивы и неопытны, к самому злому врагу они относятся, как к другу, а потому приручить их в таком возрасте ничего нет легче. Пройдет еще недельки две, характер бельчат совсем изменится. Они сделаются недоверчивыми, пугливыми; при малейшей опасности быстро прячутся в свое гнездо. Теперь их поймать и приручить гораздо труднее. Старая белочка растолковала уже им, кого надо бояться. Наступил июнь месяц, в лесной траве закраснели ягодки земляники, клубники; белочка сводит, осторожно сводит своих деток с дерева, ведет полакомиться ягодами и молодыми грибками. Наедятся бельчатки и снова марш на дерево. Там им привольно и покойно. Густая листва скрывает их от глаз врагов. Сытые бельчата заводят игры, гоняются друг за другом по веткам и возятся, словно малые дети. Время, однако, идет; бельчата растут, становятся белками; мать давно покинула их, зная, что ее заботы им уже не нужны. У нее новая семья, новые хлопоты. Лето идет к концу, а на смену ему является осень. Легкими утренничками она напоминает всему живому, что пора подумать о зиме, что пора собирать запасы пищи, чтобы скоротать ее или запастись теплой спальной.