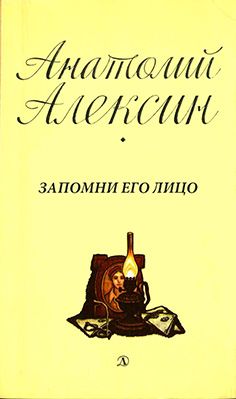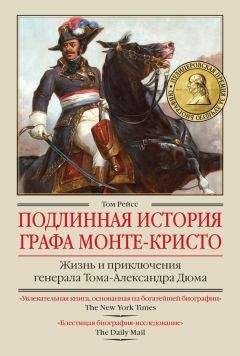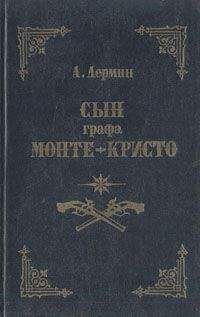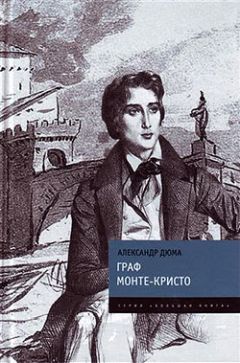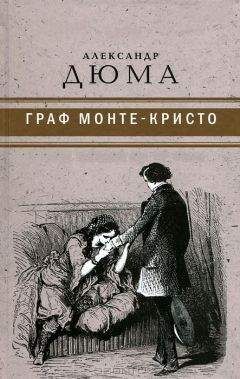— Ваше медицинское заведение, Александра Евгеньевна, вроде завода-изготовителя: вы дарите новую продукцию, — однажды сказала мама. — А я как бы на ремонтном предприятии: чиню то, что повреждено и поношено.
— Ну, зачем такие противопоставления? Мы с тобой — изготовители и ремонтники — друг без друга существовать не можем!
— И все-таки служить детям…
— Все люди, Мария Георгиевна, чьи-то дети.
Александра Евгеньевна иногда изъяснялась так, как если бы рядом с ней находились будущие роженицы, которые не могли сомневаться в точности ее диагнозов, советов и точек зрения.
В другой раз она, уцепившись за ручки кресла, точно боясь непроизвольно вспорхнуть, с задумчиво-печальной улыбкой произнесла:
— Я могла бы, конечно, считать, что у меня много детей. Что все дети, которых я увидела первой, мои… Но это было бы нарядной неправдой. Я запомнила лишь тех, которые рождались в муках. В особых муках! И только их матерей не забываю всю жизнь. — Она приподняла и опустила свои плечики, как бы извиняясь перед теми матерями, которые не особенно мучились. — Новорожденные должны были бы увидеть и услышать страдания матерей. И тоже запомнить их! Дети приносят столько трудного до своего появления и во время его, что должны были бы потом приносить одну только радость. Или хотя бы стараться ее приносить…
— Он старается! — сказала мама, указав на меня. Она не допускала, чтоб на мою репутацию падало даже подобие тени.
Однажды Александра Евгеньевна показала нам ветхий блокнот. Его страницы возле корешка были старательно склеены.
— Здесь записаны имена и фамилии матерей, которые особенно настрадались. Видите, как их много? Навещаю, если хотят… И к детям их тоже являюсь. Хотя многие из моих, так сказать, крестников были бы рады избавиться от этих напоминаний.
— Он всегда рад вас видеть! — Мама вновь указала на меня.
— А вот имя и фамилия… в чернильной рамке… Что это? — поинтересовался я.
Мама пригнула голову: мои просчеты были для нее невыносимы.
— Это случилось давно, — произнесла Александра Евгеньевна. И, помолчав, добавила: — Очень давно… Но я продолжаю свои визиты. У дочери этой женщины… которая в рамке… долг особый: за нее отдана жизнь.
— И что же? — одними губами спросила мама.
— Дочерью я довольна. И мужем довольна: до сих пор не женился.
— Все еще не женился! Его фамилия Ивашов?
— Ивашов.
Мама успокоенно вздохнула: ей тоже хотелось, чтоб Ивашов продолжал оставаться холостяком. Она мысленно коллекционировала проявление верности и благородства. Иногда вслух перебирала эту коллекцию, которая, увы, была не столь уж богатой. Коллекционировала мама в памяти и лица, которые производили на нее впечатление. «Запомни!» — говорила она. А я, всматриваясь, не всякий раз понимал, почему именно это лицо надо запомнить.
Ветхий блокнот Александры Евгеньевны прежде был мне неизвестен, и я, превозмогая боязнь вновь оказаться бесцеремонным, все же спросил:
— А что здесь за цифры? Вот эта колонка…
— Дни рождения… Я навещаю своих крестников именно в эти дни. Удобнее напоминать, что они появились на свет не сами по себе.
Я ощутил удовлетворение: к нам в дом ее приводила не только семейная дата.
Александра Евгеньевна в тот вечер сказала мне, приглушив голос почти до шепота:
— А так, как мучилась твоя мама, не страдал никто… На моей памяти.
— Это вы говорите всем сыновьям, которых навещаете. — Мама увесисто, как бы утрамбовывая пол, зашагала по комнате. — Всем говорите… Я уверена.
Грузно подтянувшись, она открыла форточку и закурила: мы с Александрой Евгеньевной не должны были вдыхать то, что вдыхала она.
В другой раз я, склонный к излишней любознательности, спросил у Александры Евгеньевны:
— А вашего сына… никто из родильного дома не навещает?
— Никто. — Она сожалеюще развела в стороны свои высохшие от времени руки. Еще больше покосилась на левый бок. И чтоб удержаться, оперлась локтем о колено. — У меня, как вы знаете, и правда, есть сын. Но он не мой… Хоть я его мать. Трагичная семейная казуистика. Не мой в том смысле, что я не нужна ему.
— А вы бы… — начал я.
— Нет пророка в своем семейном отечестве. Сапожник без сапог… А я без собственных детей! — Она виновато закашлялась. Потом встрепенулась, локоть покинул колено. — Впрочем, не сын виноват.
— А кто? — с агрессивной поспешностью спросила мама: она не могла допустить, чтоб и на Александру Евгеньевну упало хоть подобие тени.
— Любви нельзя требовать: ее надо заслужить или завоевать. Даже если речь идет о любви сыновей.
— Впервые вы, Александра Евгеньевна, несправедливы. И к кому? К матери!
Мама принялась утрамбовывать пол. Она знала, что на матерей Александра Евгеньевна никогда не замахивалась. В отличие от отцов… Вообще между понятиями «мать» и «отец» она знака равенства не допускала. И если первое слово мысленно начинала с заглавной буквы, то второе начинала с буквы обыкновенной.
— Вы заметили, как по-разному мать и отец впервые взирают на свои запеленутые произведения? Она — с безумным восторгом, а он — с изучающим! Ищет свои черты. И напрасно… Дети — наше продолжение, а не повторение, — говорила Александра Евгеньевна.
В любых конфликтах между женщинами и мужчинами она была на стороне женщин.
— Такая профессия! — пояснила мне мама.
— Каким образом мать может быть одиночкой, если рядом с нею ребенок? — непримиримо возражала Александра Евгеньевна маме.
Заодно и ответственность за просчеты детей она тоже взваливала на отцов.
Мама как врач имела дело не только с пациентками, но и с пациентами. Поэтому она пыталась восстановить справедливость.
— Вы, я понимаю, не будете снисходительны к отцам до тех пор, пока не начнете принимать у них роды.
— Роды я давно уж не принимаю.
В своем покосившемся состоянии Александра Евгеньевна вынуждена была стать врачом-консультантом.
Мама с трудом подтянулась, открыла форточку и закурила. Повернувшись к нам вполоборота, она сказала:
— Но разве не бывает и матерей, которые бросают… забывают детей своих?
— О таких надо создать… трагические повествования. И их создадут… теперь или после: измена материнскому долгу — самое непостижимое грехопадение. Кто-нибудь скажет: это редко случается! Но исключительные сюжеты рождают порой исключительные по ценности произведения… Зачем вы курите, Мария Георгиевна?
Мама махнула рукой.
— Махнуть на себя — значит, махнуть и на него!
Александра Евгеньевна укоряюще приподняла и опустила свои плечики.
— Спасать матерей и детей — это ее призвание, — сказала мне как-то мама.
Спасать Александра Евгеньевна бросалась без спроса и разрешения. Хотя без предварительного звонка даже к нам никогда не являлась.
Но однажды пришла…
Было воскресное летнее утро.
— Что-нибудь случилось? — спросила мама.
Александра Евгеньевна присела и, чтобы выпрямить, поддержать свое легкое тело, схватилась за ручки кресла. Но с каким-то отчаянным напряжением.
— Раньше я переживала за детей. А теперь… Неужто придется переживать их самих?
— О чем вы? — спросила мама. И оборонительно скрестила руки у меня на груди.
— Война началась.
Услышав о войне, мама, еще старательней, чем обычно утрамбовывая пол, подошла к телефону. Сняла трубку… И положила ее обратно. Потом накрыла руками мою голову. Она приготовилась меня защищать. Руки у нее были крепкие… Как и характер.
Мама ходила в туфлях на толстой подошве с крупным, неженственным каблуком. Она считала, что женственность ей вообще ни к чему. «Мужик в юбке!» — говорила она о себе. Юбка на ней чаще всего была темно-синяя. И такого же цвета был шерстяной пиджак.
— Говорят «синий чулок», а я — синий пиджак! — не щадила себя мама. — Если б я сейчас натянула синие чулки, это бы выглядело экстравагантно, а вовсе не целомудренно. У каждого времени свои понятия о красках и модах.
Александра Евгеньевна считала, что дружба выше любви… А характер не должен быть сильней разума. Уцепившись за ручки кресла, она утверждала, что не характер призван повелевать разумом, а разум характером. У мамы разум и характер были вполне равноправны.
«Мужик в юбке» — это определение мама распространяла не только на свой внешний облик, но и на внутренний.
— Ваш ум, Мария Георгиевна, нельзя назвать мужским, — возражала Александра Евгеньевна. — И нельзя назвать женским. Истинно высокий ум не имеет пола!
С тем, что ум у моей мамы истинно высокий, я был согласен полностью.
— Главное: надо быть вместе, — сказала мама в то воскресное обманчиво мягкое утро. — Быть вместе! И тем, которые любили друг друга… — Подведя меня к Александре Евгеньевне, она обхватила руками нас обоих. — И тем, которые не любили… Враг у всех общий!