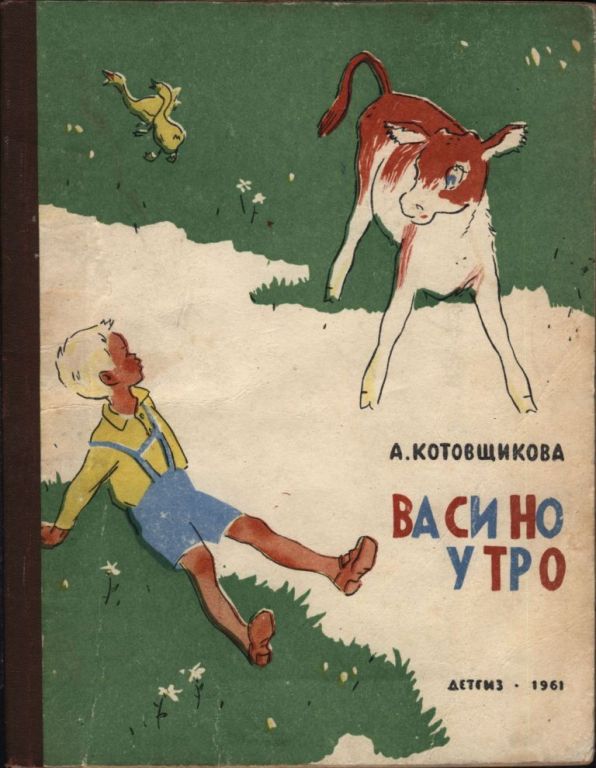Наташу уже три месяца как схоронили.
— Как?! — Старушка выронила из рук свою большую, туго набитую сумку. — Наташа! Господи! Что ты говоришь?
— Так уж вышло. Заболела сильно. В больницу не хотела ложиться, а потом…
— Не уберёг, сухарь! — жёстко оборвала старушка, и слёзы потекли по её полным щекам. — А Гуленька? Здорова?
— Видите ли… Настасья Акимовна… — он замялся.
— Что? Что? — в страшной тревоге старушка подступила к мужчине. — Да говори!
— Гули тоже нет. Её… украли. В сквере.
Старушка вся обмякла, опустила бессильно руки: казалось, она сейчас упадёт.
— Это что же? Бросил ребёнка одного, аспид? Да как украли-то?
— Вы сядьте, Настасья Акимовна. Я заявил, сразу же заявил. Не могут найти.
Приткнувшись на стуле, старушка тряслась от рыданий:
— Да как это? Кто же ребёнка украдёт?
— Олимпиада Егоровна с ней гуляла в сквере. Тётка моя, помните, может? Я же работаю, за ней тётка присматривала. Ну, она, тётка Олимпиада, значит, отошла к ларьку… булочку, что ли, для Гули купить. Возвращается к скамейке, а девочки нет. Вы хоть узнайте, Настасья Акимовна, в милиции! Тогда же заявлено было… — Он назвал отделение милиции и посмотрел на часы. — Вы извините, я должен уйти, меня ждут срочные заказы. На работу опаздываю.
Придавленная горем старушка брела под проливным дождём. Зонтик свой она забыла у Мокроусова. Шёлковая шаль промокла, прилипла к голове. Старушка ничего не замечала.
Ей представлялся Стёпа, средний сын, весёлый, жизнерадостный, рядом с молоденькой женой Наташей. Все трое — отец с матерью и бабушка — любуются крошечной Гулей… И вот заводские товарищи Степана произносят речи над опущенным в чёрную яму гробом. От тяжёлого воспаления лёгких Стёпа так и не поправился — подвела старая фронтовая рана… Гуле два года; она протягивает ручонки, просит: «Баба, не уходи! Живи опять с нами!» Но она уходит, едва заслышит шаги часовщика. Новый муж Наташи не захотел, чтобы Настасья Акимовна жила с ними, и она переселилась к младшей дочери, навещает внучку в те часы, когда он на работе. Наташа всё молчит: как-то притихла. Не жалуется, но бабушка видит, что она несчастна. К маленькой падчерице Мокроусов глубоко равнодушен, — не замечает ребёнка.
«Гуленька моя! Как же ты осталась с ним без мамы?» — с ужасом думала бабушка.
Домой Настасья Акимовна вернулась в таком состоянии, что дочь и зять хотели вызвать врача. Но бабушка заставила их сейчас же ехать в отделение милиции, указанное Мокроусовым. И сама поехала, даже не обсушившись.
Действительно, месяца два назад было такое заявление, что 15 августа в Таврическом саду пропала трёхлетняя Леночка или Гуля, как её называли, Емельянова. Мокроусов не удочерил падчерицу, и она носила фамилию отца.
Вместе с дочерью Настасья Акимовна съездила за город, к тётке Олимпиаде. У неё был свой домик в пригороде.
Эта грузная сварливая женщина очень не понравилась бабушке. Тётка даже сесть им не предложила, не стала и разговаривать: «Всё в заявлении указано. Оставьте вы меня в покое!»
Заявили в угрозыск. Там обещали принять меры. Но поиски не дали результатов.
Первое время бабушка чуть не каждый день ездила в Таврический сад. Сидела то на одной, то на другой скамейке, разговаривала со сторожами. Никто не мог вспомнить, чтобы тут украли девочку. Летом, в хорошую погоду, нередко случался переполох — шум, крик, слёзы: зазевавшаяся мать не сразу находила убежавшего ребёнка. Сад большой, детей там гуляет множество. Но как будто все происшествия кончались благополучно.
С наступлением зимы бабушка стала приходить в сад реже, а потом и совсем перестала: все сторожа давно знали её, и никто не мог ей помочь.
Страшные картины, от которых холодело сердце, представлялись Настасье Акимовне: Гуля где-то бродит, с какими-то чужими, скверными людьми, голодная, в лохмотьях; её заставляют просить милостыню… Ведь хорошие люди ребёнка не украдут, только — воры, пьяницы, преступники. А может быть, девочки давным-давно нет в живых.
Ни Настасья Акимовна, ни её родные, ни сотрудники милиции не знали, что часовой мастер Мокроусов сказал неправду.
В тот день, когда Гуля вышла во двор, Мокроусов, собираясь уходить из дому, спохватился уже на пороге: «А падчерица? Не натворила бы тут чего одна, посуду бы не побила». Но возвращаться не стал: «Скоро Олимпиада приедет. Ничего с девочкой за полчаса не случится. Да и не слышно её, заснула, наверно». Со дня на день он собирался «куда-нибудь сдать» этого чужого ребёнка. Попрекал тётку: «Опять не разузнала насчёт детдома? Что ж мне, с работы, что ли, отпрашиваться?»
Вечером тётка спросила Мокроусова: «А девчонку на даче у приятеля, что ли, оставил?» Часовщик удивился. Они осмотрели всю квартиру — девочки не было нигде. «Не ушла ли сама во двор? — предположила тётка. — Вечна гулять просится». Мокроусов еле вспомнил, что спросонок открывал дверь контролёру. «Не утащил же её контролёр? Ерунда! Зачем она ему?»
Однако исчезновение ребёнка было странным. Оно могло показаться подозрительным. Конечно, если кто спросит про девочку — из дворников или жильцов дома, а дружбы Мокроусов ни с кем здесь не поддерживал, — то он всегда может сказать, что отвёз падчерицу к своей тётке за город. Но тётка Олимпиада и слышать об этом не хотела: «Нет уж, мой дом ты сюда не припутывай!» Она требовала, чтобы племянник заявил в милицию. Оба решили: если сказать, что ребёнок пропал из квартиры, — не оберёшься хлопот: будет обыск, «затаскают», как выразилась тётка. И они придумали рассказать про сквер, расположенный в другом районе.
Но Мокроусову было неудобно признаться, что две недели он молчал об исчезновении ребёнка, и он сказал, что девочка пропала 15 августа; и только начиная с 15 августа принимались во внимание случаи, когда были обнаружены потерявшиеся дети.
А Гуля выбралась во двор 2 августа.
Кончался октябрь одиннадцатого послевоенного года.
Ленинградское небо то улыбалось, то хмурилось. Окна двухэтажного дома, стоявшего посреди обширного двора на одной из улиц Петроградской стороны, то блестели, отражая солнечные лучи, то слезились каплями стекавшего по ним дождя.
Дом был длинный, с четырьмя подъездами. Его окружали старые толстые липы. Под липами пестрели клумбы с увядшими цветами, сморщенными и поникшими. Подальше торчали молодые деревца — тонкие, как прутики, берёзки и тополя. Вдоль ограды росли кусты смородины и малины.
За домом тянулись ряды чёрных, пустых уже грядок. Угол двора занимала спортивная площадка со вкопанными на ней столбами для волейбольной сетки.
В большой,