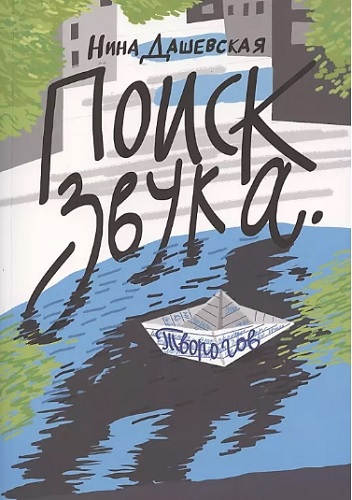думал! Всё же прокладывание лыжни было скорее игрой, сил у папы вполне достаточно. Но — возможно… лет через двадцать… нет, через тридцать. Когда-нибудь — ещё очень нескоро — Филиппу реально нужно будет идти впереди него, как старшему.
Дома, конечно, ели блины, и ноги гудели приятной усталостью. А потом Филипп увидел — Клочкова добавила новое видео.
И хотел уже идти в свою комнату, послушать. И тут мама спросила — Филя, а у тебя есть новые записи? Как ты играешь?
И он вдруг сказал — моих нет, но послушай, как у нас там девочка одна играет. Она на четвёртом курсе, выпускается в этом году, Настя Клочкова.
И поставил Пьяццоллу — маме эта музыка очень нравилась. Но Настя играла лучше раз в двести, чем Филипп в прошлом году. Услышит это мама, нет? Поймёт?
— Красиво, — просто сказала мама. И добавила: — Какой у девочки характер… непростой, да?
Филипп засмеялся — не то слово.
И вдруг решился:
— Смотри, а вот тут она свою музыку играет.
И поставил то самое, с латинским названием, — что он слышал тогда в коридоре, где Настя будто плещет на холст краску: аккордами, арпеджио, жуткими кластерами и невозможными пассажами.
Поймёт мама, нет? Ведь это непросто — Филипп поначалу и сам был в недоумении, но потом уже не мог без этой музыки жить и чувствовал, что «его» — то, что начинает звучать в голове, — тоже такое, очень похоже на Настино. Но ведь и у неё — не окончательно своё, там проскальзывал и Пьяццолла, и Бах, и Шостакович — и что-то ещё, чего Филипп пока не знает. Клочками. «Вот она и Клочкова», — подумал вдруг. Но всё же местами из этих клочков взрастало целое — как будто собирался объёмный пазл.
Закончилось. Мама молчала, Филипп её не торопил — взял ещё один блин, намазал мёдом, откусил. Потекло на тарелку.
— А поставь ещё. Я пока ничего не поняла, надо ещё раз.
И Филипп вытер руки и поставил ещё: они послушали, и потом мама попросила прислать ссылку. И ещё прислать музыку — что он любит. Что ей послушать, чтобы тоже начать понимать. И он отправил ей «Весну Священную» Стравинского — решил, что это хотя и непонятно, но при этом совершенно прекрасно, пробивает безо всякой подготовки.
— Спасибо, — сказала мама. — Ты уедешь, а я теперь буду слушать. Чтобы хоть что-то; а то как же: сын — музыкант, а я…
И Филипп вдруг понял: он прокладывает лыжню. Прямо сейчас, для мамы.
Они поменялись местами; неокончательно, но отчётливо.
И ведь это уже давно: когда мама спрашивала его, как поменять фон в зуме. Когда он помогал папе поставить навигатор на телефон.
…Посмотрел в окно — небо чистое. Если не будет снега — их лыжню не завалит и завтра по ней кто-то пройдёт, наверняка. Хорошо, что они её проложили.
Перед сном закрыл глаза — и на изнанке век увидел снег, чистое поле. И на нём можно проложить лыжню; да и вообще, там можно сделать всё что хочешь. И цветы, и буквы. Надо будет завтра ещё сходить.
Мельница
Красиво. Всё же у нас очень красиво, кто бы что ни говорил; деревья в морозном тумане, низкое солнце в дымке, кристаллики инея чуть отсвечивают фиолетовым.
— Эй! Опять застыл — опоздаем! — кричит мне Вадик.
Я поправляю респиратор и бегу догонять.
Никуда мы на самом деле не опаздываем, просто Вадик любит приходить в школу пораньше. Смотреть через окно — как включают кварц и школа начинает будто вибрировать светом, превращается в замок вампиров. Вадик тоже любит красивое.
Мы мёрзнем на холоде; в школу пока нельзя. Собирается народ; кто не хочет ждать на улице — забегают в магазин через дорогу купить сухариков или шоколадку, с ними легче пережить любые уроки. Потом звон хрустальных колокольчиков сообщает, что волшебство закончилось — лампы выключили, двери открыты.
Мы заходим в шлюз, там уже привычная толкотня — куртки, шапки, сменки. Я надеваю белые кроссовки — мне их купил папа. Мама ещё хмыкнула — куда белые, в нашу-то грязь! А папа сказал — пусть в школе бегает. Пока. А потом… кто знает. Мама сказала — до «кто знает» у него нога вырастет! А папа сказал — всё равно. Белые кроссовки — это значит, мы не сдаёмся, не теряем надежды. Мама, кажется, уже давно ни на что не надеется, только следит, чтобы мы вовремя меняли респираторы.
В общем, я надеваю кроссовки и думаю: смогу ли в них когда-нибудь выйти на улицу?
А пока выхожу в школьный коридор — там можно наконец снять респиратор. Массирую уши, щёки — у меня немеет лицо от этих резинок, отмечаю карандашом время. Фильтр в респираторе рассчитан на 16 часов, потом надо менять. Я за этим слежу — в прошлом году у нас одна девочка носила свой респиратор чуть ли не трое суток; ну и понятно, что с ней случилось. С тех пор детям в школах респираторы выдают бесплатно, чтобы не экономили. Потому что государство о нас заботится.
Школа превратилась в самое обыкновенное здание, волшебство закончилось. Мы проскакиваем мимо стенда «Ветряки — мой край родной».
На лестнице нас догоняет Лийка.
— Гриш, вы после школы куда? — спрашивает она.
— Никуда особо, — пожимаю плечами.
— Пойдёте со мной?
Я киваю. Не спрашиваю куда — понятно же, с Вадиком и Лийкой я пойду куда угодно. Даже и без них — куда угодно, лишь бы не сидеть дома. У папы три выходных — и они с мамой вечерами ругаются за весь месяц, догоняют.