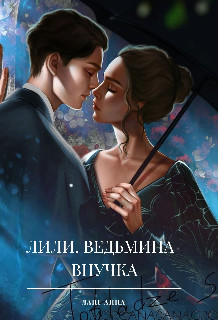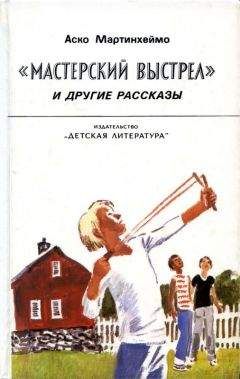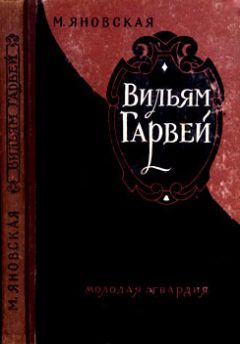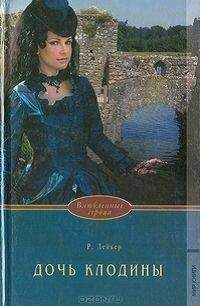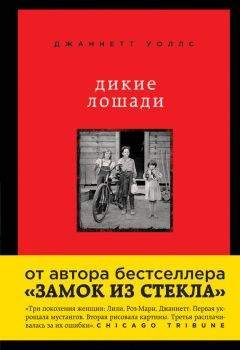понравился бы тихий, мелодичный перезвон ее колоколов». И хотя я напечатал обратный адрес, она мне не ответила. Единственной весточкой о ней была приписка в одном из писем Юрия: «Эллен шлет тебе привет».
Я описывал Юрию свою новую жизнь довольно подробно, но без излишних восторгов. Отвечал он мне нерегулярно, и в письмах его, таких провинциальных, сплошь состоящих из смешных историй, которые случались с почти незнакомыми мне ребятами из нашей школы, я чувствовал все большую и большую тоску, словно теперь, оставшись без меня и мечась в слепом, одиноком отчаянии, которое он прежде скрывал под маской насмешливого цинизма, он начал прозревать: жизнь не даст ему того, чего он от нее хочет. У меня появилось ощущение, что, пожалуй, я никогда до конца Юрия не понимал.
А потом пришло его последнее письмо, в котором он обиняком дал мне понять, что вступил в морскую пехоту. В первую минуту я подумал, что это не более как уловка избежать призыва и, как всегда над всем насмехаясь, открыть себе смычком двери «Дворца Монтезумы» [22]. Однако он изложил все это более прозаично: «вернувшись с победой на родину», он, может быть, воспользуется льготами, которые сулит участникам корейской войны новый билль, и сумеет поступить на дирижерский факультет. Действительно он хотел это сделать или написал просто так, чтобы доставить мне удовольствие и укрепить веру в него, я так никогда и не узнал, потому что переписка наша после этого оборвалась.
Через несколько месяцев отец прислал мне вырезку из нашей местной вечерней газеты, где не без гордости сообщалось, что наш талантливый молодой скрипач Юрий Кветик, который был отправлен с Паррис-Айленда [23] прямо в район Пусана, взят в плен. В июне, во время каникул, я позвонил Юти и миссис Кветик; большего я сделать не мог, потому что дела у отца пошли совсем скверно и мне почти сразу же пришлось уехать — я устроился пианистом в джаз, который должен был работать летом в одном курортном городке.
Сколько раз, сидя в ресторане этого дурацкого отеля на берегу озера, я размышлял над иронией судьбы, которая вынудила меня играть ради денег, а перед Юрием поставила такой тяжкий выбор и теперь так жестоко наказывает! Я написал ему об этом — почему бы не написать? — и послал письмо через Международный Красный Крест: может быть, получив его, он, как прежде, язвительно усмехнется, хотя бы и по моему адресу.
Но Юрий не ответил мне. Наверное, он и не получил моего письма, потому что некоторое время спустя я узнал, что он умер в лагере для военнопленных. Я плакал, запершись в своей комнате, — теперь он уже никогда мне не ответит. Кто отнял у нас музыку?
Газеты в то время возмущались, что нашу героическую морскую пехоту предали, и у нас в городе стали говорить, что Юрий пал смертью героя. Так это было или нет, не знаю, но, когда его тело привезли домой хоронить, поползли совсем другие слухи: что он сам хотел умереть, потому что плен для него был равнозначен смерти и после всего, что произошло, жизнь была бы для него так же немыслима, как после ампутации отмороженной руки.
Его привезли прелестным солнечным днем, какие редко выдаются в апреле. Можно было похоронить его на военном кладбище, но родители захотели, чтобы он покоился на их семейном участке, купленном, так же как и музыкальное образование сына, ценой многих жертв и лишений. Как раз в это утро я приехал домой на пасхальные каникулы, но в церковь не поспел. Взяв у отца машину, я помчался за город.
Нашел я кладбище не сразу. Когда я подходил к могиле, почетный караул уже опускал покрытый флагом гроб в землю. Я стоял в стороне, отдельно от семьи и близких друзей, вдыхал кружащий голову запах свежей земли и думал: если бы чудо этого несказанного дня позволило мертвым вдохнуть хоть один глоток весеннего воздуха, они сбросили бы крышки гроба и встали из могил, счастливые и возрожденные.
Я повернулся, чтобы уйти, убеждая себя, как делают все трусы, что лучше навестить Кветиков потом, через несколько дней, когда они немного успокоятся. Но меня увидела Эллен, рядом с которой шел незнакомый мне молодой человек с землисто-серым лицом, и мне пришлось остановиться. Она страдальчески улыбнулась мне, прозрачно-бледная в черном костюме, и молча протянула руку. Мне подумалось, что она оплакивает не только нелепую смерть брата, но и трагическую участь тех, кто обречен жить.
— Это мой жених, познакомься, — сказала она.
Я пожал руку молодому человеку, который явно чувствовал себя не в своей тарелке и томился нетерпением вернуться поскорей к своим коммивояжерским делам.
Теперь нужно было ждать остальных, здороваться с ними. Мистер Кветик и Юти в сбившейся набок черной шляпке с вуалью с трудом вели под руки обессилевшую от горя миссис Кветик. Они шли по каменным плитам дорожки, все в ярких бликах льющегося сквозь ветви ив апрельского солнца, и мне было слышно, как прерывисто и хрипло дышит мистер Кветик и как глухо, словно раненое животное, стонет при каждом шаге его жена. Они остановились передохнуть, и миссис Кветик, в первый раз за все годы не в белом, вдруг подняла голову и увидела меня.
Вырвавшись из поддерживающих ее рук, она кинулась вперед. Я не знал, что нужно говорить и делать, но она бессильно прильнула ко мне всем своим тяжелым, грузным телом, задыхаясь от рыданий.
— Боже мой, боже мой, боже мой!..
Я хотел обнять ее, но она, трясясь и захлебываясь, стала бить меня кулаками в грудь, и я вдруг с ужасом понял, что это в ней говорит не радость от встречи со мной, а ненависть.
— Его лучший друг! — крикнула она. — Ты был его лучший друг!
Я неловко гладил ее содрогающиеся плечи, а она хрипло, пронзительно кричала:
— Лучший друг, почему же ты не удержал его? Почему ничего для него не сделал? Сам туда не пошел, почему же не удержал его? С кем ты теперь будешь играть?
Что я мог сказать ей? Да если бы и мог, все равно не успел бы: упорно не смотревшая на меня Юти и бормочущий что-то непонятное, кажется, не по-английски, мистер Кветик, такой непривычный в узковатом воскресном костюме, снова подхватили ее под руки и повлекли вперед. Ее плач несся по тихому, залитому весенним солнцем кладбищу. Эллен кивнула мне на прощанье, словно прося не сердиться, и, мелькая