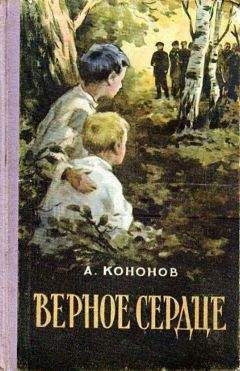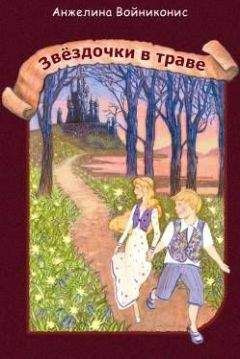В училище имелись: священник — для православных, ксендз — для католиков, пастор — для лютеран. А для староверов никого не было: религия эта считалась как бы незаконной, а потому Гриша мог гулять по городу среди бела дня.
Гулять, когда другие сидят согнувшись за партами! Хочешь — иди на реку, хочешь — гуляй в городском саду, хочешь — броди себе по городу, любуйся на все, что выставлено в окнах магазинов… Удовольствие заметно усиливалось от того, что все Грише страшно завидовали: выпадет же человеку такое счастье в жизни без всяких с его стороны заслуг!
И еще одно утешало Гришу: за ним укрепилась слава силача, а для мальчишек это вещь немаловажная! Она заслонила даже пятерки, которые с удивившим весь класс постоянством посыпались в Гришин дневник. Учение давалось ему легко, кроме чистописания, — тут у него дело не ладилось. Буквы писал он четко, ясно, а красоты настоящей в них не было. По чистописанию он неизменно получал тройки.
Скоро он совсем освоился в классе. Особых обид ни от кого больше не было. Пробовали дразнить «шумовкой» — не прижилось: шумовка маленькая, круглая, а он — вон какой. Только один раз вышла неприятность, когда Гриша невзначай сказал «засень» вместо «солнце заходит».
Ух, как тогда все обрадовались, закричали хором:
— Засень! Засень!
Он привык к этому слову с детства, а в городе оно почему-то не годилось.
Покраснев, он выбежал в коридор, за ним летели мальчишки — с добрый десяток — с криками:
— Засень!
И вдруг весь этот табун наткнулся на Арямова. Федор Иванович расставил навстречу толпе большие свои руки — на всех хватило — и спросил весело:
— Что происходит?
— Шумов говорит «засень». Он говорит «постен»!
Арямов поглядел на расстроенное лицо Гриши, на ликующих вокруг него мальчишек и, улыбнувшись, сказал:
— Только-то и всего? Милый, глупый народ! Разойдись в разные стороны.
А Гришу удержал за руку, пошел не спеша с ним вместе по коридору.
— Ты из каких краев, Шумов?
— Из «Затишья»… Это под Режицей.
— А отец, дед твой где раньше жили?
— Отец — со мной. А дед… про деда говорили, что он у Белого моря жил, в скиту где-то.
— Понятно: староверы, из поморов. Вот оттуда и «засень»: старина-матушка! Ну что ж: «сень». «Лесов таинственная сень…» А на товарищей не сердись — они ж это не со зла.
Он привел Гришу к самым дверям приготовительного класса, поглядел еще немножко на него, поглядел на других мальчишек, молча сгрудившихся у порога, и ушел.
Тогда все накинулись на Гришу:
— Что он говорил? Откуда он тебя знает?
— Да уж знает! — многозначительно ответил Гриша. — Мы с ним знакомы малость.
Недавние преследователи глядели теперь на Гришу Шумова с уважением: знаком с Арямовым!
К Федору Ивановичу у учеников младших классов было отношение особое — как к человеку, занятому делами загадочными. Он преподавал только в старших классах, и предмет его назывался «космография». Даже название было непонятным.
Гришу постепенно перестали дразнить, он стал своим в классе, заняв там далеко не последнее место. За ним прочно укрепилась слава смельчака и силача. Вот как это произошло. Однажды к нему подошел Дерябин и спросил хмуро:
— Хочешь попробовать на кулачки?
— Отчего ж не попробовать! — ответил Гриша.
На большой перемене они отправились в первый класс. Опытный Дерябин поставил у порога Никаноркина — сторожить; если вдали покажется надзиратель, Никаноркин должен был крикнуть: «Зекс!»
Это был условный сторожевой крик, предупреждающий об опасности.
Бойцы стали в углу у окна, их со всех сторон окружили ученики первого и приготовительного классов, на этот раз сосредоточенно молчаливые. Правило было только одно: не бить по лицу и под сердце.
Гриша ударил первый. Дерябин крякнул и для устрашения поплевал на кулак; пока он плевал, Гриша, не ожидая, нанес новый удар, а дерябинский кулак ловко отшвырнул левым локтем.
— А, ты так! — Дерябин разъярился, ударил наотмашь, Гриша быстро нагнулся — удар скользнул мимо.
После этого противники замолотили друг друга так часто, что зрители потеряли счет ударам.
Бились долго.
Наконец Дерябин сказал:
— Хватит.
И отошел в сторону с несчастным лицом.
С порога послышалось звонкое:
— Зекс!
В коридоре показался надзиратель, и все разошлись, оборачиваясь, кидая на Гришу лестные для него взгляды.
На следующий день Дерябин снова подошел к Шумову, расстегнул свою куртку и, подняв рубашку, объявил, словно хвастаясь:
— Весь рябой!
И в самом деле: грудь его была усеяна сизо-багровыми синяками.
— У тебя не руки, а железные крюки, с тобой драться — поскучаешь после.
Гриша молчал с достойной скромностью.
Дерябин застегнулся, оглядел Шумова, словно оценивая его со всех сторон, и спросил:
— Тайну умеешь хранить?
— Умею.
— Хочешь, я тебе скажу одну вещь?
— Скажи!
— Только ты меня не выдавай.
— Не выдам.
— Идем!
Дерябин повлек Гришу в гимнастический зал. Это была длинная комната, похожая на широкий коридор; белый холодный свет лился сюда из огромных, закругленных вверху окон. Голландские изразцовые печи не могли, видно, нагреть зал, и здесь, пожалуй, было не теплей, чем на улице. Трое параллельных брусьев, обшитая кожей «кобыла» для прыжков, турник и лестницы помещались в дальнем углу зала. Видно, предстоял урок гимнастики — рослые шестиклассники толпились вокруг брусьев, сняв, несмотря на холод, куртки.
Укрывшись вместе с Гришей за их спинами, Дерябин, должно быть, почувствовал себя в безопасности и начал рассказывать, все время, впрочем, беспокойно оглядываясь (опасность грозила не со стороны гимнастов — те настолько презирали первоклассников и приготовишек, что сочли бы за большой урон своей чести вслушиваться в их разговоры, — опасаться приходилось своего брата — одноклассников). И, все время вертя головой, Дерябин говорил на всякий случай вполголоса.
Оказывается, в третьем классе ребята в страшной тайне затеяли новую игру. На большой перемене они ставят по пятаку на того педагога, который, по соображению игрока, может первым выйти после звонка из учительской.
— Ну, как на бегах. Понятно?
— Понятно, — ответил Гриша, хотя о бегах имел представление самое смутное.
Охотней всего ставят на ксендза Делюля — в свои дни он чуть ли не всегда первым отправляется на урок, заметая пол длинной, как юбка, сутаной и сладко улыбаясь во все стороны, даже если вблизи него — одни голые стены. Хорош еще Пал Палыч — редко запаздывает.
— Это лысенький, с кудерьками вокруг лысины? Со стеклышками? Мухин.
— Ну да. А уж на попа, я тебе скажу, ставить — просто гроб! Поздней всех выползает.
— А пятаки зачем?
— Можно и по три копейки. Наконец, по копейке можно.
— Да зачем все-таки?
Дерябин оглянулся по сторонам и прошептал:
— То-та-ли-за-тор. Понял?
Гриша ничего не понял, но кивнул головой, чтобы не уронить себя в глазах человека, который — пусть побежденный в бою — был все-таки куда старше его.
— Можно и по копейке. Третьеклассники — те ставят по пятаку. Деньги собирают в кучу, кладут на подоконник. Скажем, ты поставил пятак на Голотского. И — ура! — Голотский раньше всех вышел после звонка в коридор. Значит, ты и забираешь всю кучу. Если на Голотского ставили двое, стало быть, делите выигрыш пополам… Нет, на инспектора двое не поставят, — сказал, подумав с минутку, Дерябин, — а на ксендза желающих много. Я вот все и думаю: если в третьем классе так играют, почему нельзя в первом?
— А в приготовительном?
— В приготовительном… нет, там не выйдет.
— Почему?
— Надо, чтоб в классе все ребята хорошо знали друг друга. Надо прожить вместе, ну, хоть зиму. А разве ты всех знаешь у себя в приготовительном? Можешь за любого поручиться? Руку отдать на отсечение?
— Как это — руку на отсечение?
— А так: если выдаст тот, за кого ты поручился, тебе полагается отсечь руку прочь, начисто! Понял?
— Понял.
— Теперь слушай. Иные ребята третьеклассники выигрывают по рублю. По ру-ублю! — протянул Дерябин, и глаза у него заблестели. — Чуешь, до чего это стоящее дело? Чуешь? — Щеки у Дерябина пылали.
Гришу рассказ об игре с пятаками не очень увлек, и он отозвался больше из вежливости:
— Чую.
— И — никому ни слова! Как только я налажу все это у себя в классе — а я уж добьюсь, налажу, — приходи тогда к нам. Наши мальцы-первоклассники про тебя уж знают, пустят… Были б деньги — дело пойдет!
Нет, не было денег у Гриши. И изобретенная третьеклассниками игра мало его интересовала. Дома (если можно было сказать «дома» про квартиру Белковой) он забывал и о Дерябине, и о Никаноркине, и о Довгелло… и даже о Стрелецком, о своем долге ему.