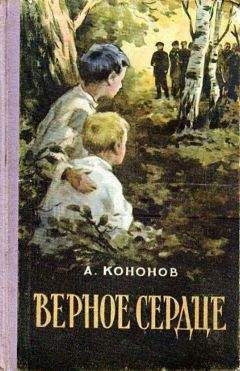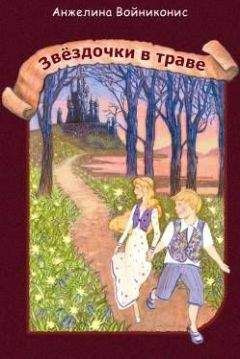— Слушай-ка, я как раз хотел потолковать с тобой о деле. Помнишь о тотализаторе? Ну, так вот завтра мы открываем его у себя в первом классе. Я уж запас пятак для этого.
— У меня нету пятака.
— Выиграю — тебе одолжу!
— А если не выиграешь?
— Выиграю.
Ну, вот какой получился разговор. Стоило для этого провожать Дерябина по дождю! Так хотелось поговорить про Дон, про казаков…
Гриша вдруг рассердился:
— А может он брать вместо шести копеек рубль? Или хоть сорок копеек?
— «Голубчик»-то? Может.
— Позволено ему это?
— Стало быть, позволено. Подслушал я один раз в рисовальном зале разговор. Я это тебе под секретом говорю. Не хотел подслушивать, а так случилось. Ты ж знаешь, в рисовальный зал пускают только со второго класса. И старше. А нашему брату туда ходу нет. Ну, я, конечно, сразу и задумал туда попасть. Там всякие фигуры стоят из белой глины, гипс называется. И белые маски висят по стенам — одна будто смеется, другая плачет… Занятно! И вот как-то раз вижу: выходит из этого зала Резонов… Не знаешь разве Резонова? Ну, учитель рисования, длинный такой и волосы чуть не до плеч. Он хороший. Одним только плох: нельзя на него ставить — первый никогда не выйдет на урок, я уж это заметил. Ну ладно. Вышел он в коридор, а ключи в двери оставил. За дверью, чую, тихо. Ну, я, конечно, в зал. Ничего я особенного не хотел: погляжу только, думаю, что за фигуры. Постукаю: пустые внутри или нет. И постукал пальцем — пустые, звенят… Только постукал — возвращается Резонов, а с ним почему-то идет и «голубчик», Стрелецкий. Я прямо так и сел на пол, позади парт. Им меня не видать. Резонов говорит шутя, что ли: «А вы, Виктор Аполлонович, все еще занимаетесь своим ростовщичеством?» Тот посмеивается: «Что вы, за кого вы нас принимаете?» Значит, и впрямь шутят. А впрочем, не поймешь… Резонов говорит как будто всерьез: «Ведь вы с бедняков дерете. Богатенькие-то у Ямпольских всегда могут купить. А если и задолжают случайно вам, так на другой же день возьмут денег у папеньки, да и отдадут вам, лишней копейкой только и расплатятся». Стрелецкий на это: «Все делается с ведома господина директора. Взимание известного штрафа за неаккуратность в платеже дис-ци-пли-ни-рует учащихся. Мера вполне педагогическая». Да. «Ну хорошо, — это Резонов говорит. — А деньги куда идут?» Стрелецкий — слыхал, как он смеется? Хе-хе-хе. «Хе-хе-хе, разве вы не знаете о благотворительной деятельности супруги господина директора, а также госпожи Дзиконской, супруги полицмейстера, и других известных дам нашего города? Деньги идут исключительно на благотворительные цели». — «А вы отчитываетесь перед кем-нибудь?» — «Только не перед учителем рисования, хе-хе-хе». С этим «хе-хе-хе» он и ушел. Резонов походил-походил по залу, взъерошил волосы. Бормочет: «Черт знает, что такое!» И вдруг — представляешь себе картину — видит меня за партой, на полу. Я вскочил: что он теперь обо мне подумает? А Резонов только засмеялся: «Хорош! Давал черт грош… и то пятился». Ну, я и понял: обошлось. Да как брызну из зала… Он ничего, хороший, Резонов-то, только ставить на него нельзя — верный проигрыш.
— Выходит, что Стрелецкому позволено это, деньги идут не ему?
— Выходит, позволено. А деньги-то все-таки идут ему. По крайней мере, большая часть.
— А ты откуда знаешь?
— Говорят.
— Ну, говорят… мало ль что говорят.
— Говорят еще, что ему кой-кто из родителей к именинам букеты посылает. А в букете — кредитка. Ну, и уж сынок такого родителя ни в чем дурном целый год замечен не будет. А на следующий год — еще букет…
— Мало ль что говорят.
— Да вот про Голотского же не говорят! Он инспектор, ему и кредитку следовало бы покрупней, а вот не слышно про него.
Гриша замолчал, подавленный, со скукой глядя на сетку дождя, которая все темнела, становилась гуще… Наконец сказал нехотя:
— Хотел я с тобой про Дон… А ты вон какой разговор завел.
— Да ведь разговор-то с чего начался? С твоего долга Стрелецкому! Ну, прощай, я уже дома. Спасибо, что проводил.
— Не отдам я ему долга. Я и ленточку-то его выбросил в бурьян! Нет: шесть копеек отдам. Что должен, то и верну. Или — десять копеек. Гривенник я как-нибудь достану.
— Гривенник он у тебя не возьмет. Вот как рубль нарастет, тогда он тебя и настигнет.
— Посмотрим, как еще он меня настигнет. Не дамся!
— Посмотрим.
Ждать долго не пришлось. На другой же день Стрелецкий подошел к Грише и спросил:
— Почему не поклонился мне?
— Когда?
— А тогда, когда встретился со мной.
— Где? Я… не видал. Не заметил.
— Ты меня не заметил, а я тебя заметил. У меня вас четыреста человек, и я всех вас замечаю. А ты вот меня не заметил. Оч-чень странно.
Гриша молчал, беспомощно озираясь.
— Ну, вот что, дружок, — ласково сказал Виктор Аполлонович: — в следующий раз, если ты вздумаешь мне не поклониться при встрече, будешь записан в кондуит. Мне твой поклон не нужен, голубчик, но таково правило в нашем учебном заведении. И его надо соблюдать!
Гриша долго глядел вслед уходившему надзирателю. Обтянутые ляжки Виктора Аполлоновича, как всегда, равномерно подрагивали на ходу. До чего же противно!
Дерябин-то, выходит, прав.
А вот и сам Петр, почему-то взъерошенный, красный. Подойдя поспешно к Грише, он раскрыл широкую свою ладонь:
— Бери сколько хочешь. Хоть половину!
На дерябинской ладони лежала пригоршня медяков и гривенников.
— Целых шестьдесят копеек! — ликуя, сказал Дерябин. — Я сегодня на Делюля поставил. Молодец ксендз — выручил, опять первым вышел на урок. Ну, что молчишь? Хочешь теперь сам сыграть?
Гриша задумался. Отец, помнится, говорил что-то про карточную игру на деньги, ругал ее. Ну, а про эту он, должно быть, и не слыхал… И названия-то, конечно, не знал: то-та-ли-за-тор.
— Не хочу, — сказал он с усилием.
— А Стрелецкий?
Да, Стрелецкий, похоже, и в самом деле может настичь любого, кого захочет. Сегодня — кондуит, завтра — кондуит, а там, смотришь, по поведению плохой балл… А дальше — вон из училища.
— Лучше убегу отсюда! — сказал Гриша решительно.
— На Дон? — сузил глаза Петр. — Не валяй дурака! Ну, не хочешь сам, давай я за тебя сыграю. И со Стрелецким расплатишься. Только вот Делюль-то уже ушел. Теперь он будет только в четверг. На кого тогда ставить?
— Не знаю.
Дерябин призадумался на минутку:
— Разве что на Мухина? У него сейчас как раз будет урок в пятом классе. Я узнавал по расписанию.
— Нет, не хочу.
— Да чего ты боишься? На мои ведь деньги играть будешь. Эка беда! Говори, на кого ставить?
И вдруг Грише вспомнилось доброе лицо Арямова. Не может быть, чтоб такой человек подвел его!
И он сказал:
— Тогда уж на Федора Ивановича.
— На Арямова? — удивился Дерябин.
— Ага.
— Да я даже не знаю, будут ли у него сегодня уроки.
— Ну вот, когда будут — поставь на него, — упрямо сказал Гриша.
— Твое дело, — недоумевающе проговорил Дерябин и, позвякав монетами, ушел.
А хорошо ли, что он решил поставить именно на Арямова? Федора Ивановича уважали в училище все, даже малыши, которые и о космографии-то слышали только одно, что это наука о звездах. А может, потому и уважали: наука-то была необыкновенная.
Грише было неприятно: не подумав, сгоряча согласился он на предложение Дерябина — и вот теперь получается вроде обиды для Федора Ивановича. Правда, об этой обиде сам Арямов никогда и не узнает.
Все-таки было не по себе.
А дома его настроение еще больше испортилось.
За столом, накрытым знакомой ободранной клеенкой, сидел Лехович и с увлечением рисовал что-то цветными карандашами, даже кончик языка от старания высунул — розовой пуговкой. Увидав вошедшего Гришу, он таинственно поманил его к себе пальцем.
Гриша подошел нехотя. Лехович протянул ему квадратный лист плотной бумаги. На нем был изображен — и очень неплохо — конь, рыжий, щеголеватый, с коротко подстриженным хвостом. Только голова у него была мухинская, голова Павла Павловича.
— Похож? — Серж даже покраснел слегка — видно, ждал похвалы.
— Похож!
— Ну, его легко рисовать: лысина, кудри вокруг — это желтым карандашом, пенсне — голубым, и готово: каждый узнает. Это не штука. А вот инспектора… — И Лехович вытащил откуда-то из кипы бумаг еще один рисунок.
Гриша увидел гнедого битюга с мясистой шеей и огромными, как тарелки, копытами. Голова у битюга была тоже как будто знакомая: короткий солдатский бобрик волос, рыжие усы… Ну конечно, Голотский!
— А этот? — спросил Лехович.
Серый в яблоках рысак мчался во весь опор, накрытый попоной с пелеринкой; в ней без труда можно было угадать делюлевскую сутану.
— А лицо никак не схвачу, — с некоторым огорчением проговорил Серж. — Только по пелерине и догадываются, да и то только те, кто знает про наш тотализатор.