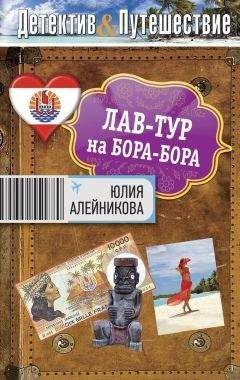«Вася, скажи честно, — спросила тогда мать, — ты опять не поладил с Кузнецовым?»
Отец усмехнулся и ответил, что с карьеристами ладить нельзя, с ними можно только драться.
Этот Кузнецов был высокий юркоглазый дядька, начальник отца. Раньше он часто приходил к Забелиным домой. Потом они с отцом поссорились из-за какого-то проекта, и Кузнецов совсем перестал бывать. Таёжка вскоре забыла его лицо. В памяти почему-то остались только руки — маленькие и белые, как у женщины. Кузнецов всё время потирал их так, будто отмывал под краном.
Мама с самого начала была против переезда. Она плакала и всё время говорила о московской прописке. Но отец ответил, что он едет по путёвке и прописка никуда не денется.
В день отъезда Таёжка ходила по квартире и бесцельно трогала вещи. Она выросла среди этих вещей, и они стали как бы частью её самой. Из всего, что было ей дорого, она захватила с собой книги и черепаху Тюльку. Сейчас Тюлька обитала в живом уголке Озёрской школы вместе с одноухим зайцем…
Сначала, когда они с отцом приехали в Озёрск, всё вокруг казалось Таёжке необычным: и просторные дома, рубленные из вековых, будто чугунных лиственниц; и крытые дворы; и зимние сугробы, витые гребни которых избирались до самых крыш.
Ребята здесь тоже были другие — спокойные и рассудительные. Даже говорили они по-своему: мочалку называли вехоткой, уросить у них означало капризничать, баско — красиво, а летось — в прошлом году.
В первый же день после приезда Таёжка познакомилась с Мишкой, и он повёл её брать черёмуху. Черёмуху уже прихватило заморозком, она была сладкая и крупная (хрушкая, как сказал Мишка). Брать её было просто: расстелешь одеяло под деревом, тряхнёшь черёмуху, и вниз дождём осыпаются ягоды. Из молотой черёмухи получается удивительно вкусная начинка для пирогов. А ещё здесь пекут пироги с налимьей печёнкой. Вот бы мама попробовала!..
С этими мыслями Таёжка и уснула. Ей снился грохочущий голубой поезд. Он летит через тайгу, и ветер разносит по сопкам его весёлые гудки. А на подножке вагона стоит мама, и на ней то платье, в котором она провожала отца и Таёжку на вокзал: белоснежное, с короткими круглыми рукавами…
Разбудило Таёжку солнце. Она открыла глаза, взглянула в окно и зажмурилась. Небо было такое чистое и яркое, что Таёжка сразу поняла: идёт весна. Словно угадав её мысли, кто-то наугад раскрыл книгу и радостно забубнил:
Весна! Весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон!
И тут все девчонки сорвались вдруг с кроватей и в одних рубашонках принялись отплясывать какой-то невиданный танец.
Весна! Весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон!
Своей лазурью голубой
Слепит мне очи он! —
хором вопили девчонки.
На мужской половине заспанные «строители» поднимали головы с подушек и ошалело переглядывались. Потом и они заразились буйным весельем, царившим за стенкой. В одну минуту интернат стал похож на сумасшедший дом.
Вошёл Сим Саныч и, заткнув уши, крикнул:
— Крокодилы! Удавы! Зулусы! На зарядку!
— Крокодавы! Увылы! Лузусы! — гоготала мужская половина.
Наспех одевшись, выбегали во двор, встречались с девчонками, толкали их в сугробы, натирали снегом носы и от избытка сил вопили на разные голоса.
Наконец Сим Санычу кое-как удалось навести порядок, и вся орава помчалась по знакомой тропинке — до Сосновой просеки и обратно. Так было круглый год. Зарядка отменялась лишь в самые лютые морозы.
Первым, как всегда, прибежал Мишка Терёхин, последним, сзади всех девчонок, — Генка Зверев.
— Опять лень одолела? — спросил его Сим Саныч.
Мишка, натирая лицо снегом, усмехнулся:
— Он бы и первым, Сим Саныч, прибежал, да по дороге в соплях запутался.
Генка шмыгнул носом и бросил на Мишку свирепый взгляд.
— Ой, батюшки, ой, напугал! — издевался Мишка.
— Строиться! В столовую! — скомандовал Сим Саныч.
Столовая помещалась в нижнем этаже школы. Это был обыкновенный класс с двумя кухонными плитами, возле которых на переменах всегда отирался Генка Зверев.
Аппетит у Генки был, как у молодого поросёнка. Если на кухне ему ничего не перепадало, он ходил по классам и выменивал на еду рогатки собственного производства. А рогатки он делал удивительные — дальнобойные, со специальным оптическим прицелом. Ворону из них можно было сбить за сорок шагов. Менялись с Генкой охотно, особенно в младших классах. Так что жил он, как правило, припеваючи и вплоть до отбоя ходил с набитым ртом.
Учителя ботаники в Озёрской школе не любили. Был он лыс, сухопар и крайне обидчив. За глаза его звали Рибой. Он не выговаривал «ы» после «р». «Крыло» у него звучало как «крило», а «рыжий» — как «рижий». Поэтому про него сочинили дразнилку:
На высокие гори
Залезли вори
И украли рибу.
Сегодня Риба, как обычно, расхаживал между рядами и бубнил:
— Размножается львиный зев семенами и черенками. Посев делают в марте — апреле. Записали? Сеянцы пикируют в ящики, в грунт парника или на гряды… Зверев, перестань витать в облаках… Окраска цветов двухцветная и полосатая.
Мишка, прикрывшись учебником ботаники, рисовал в тетради двухцветных полосатых львов. Один из львов сладко спал, другому челюсти сводила зевота. Из пасти у него тянулась надпись: «Ох-хо-хо, помираю со скуки, товарищи!»
Когда рисунок был готов, Мишка пустил его по классу. По рядам покатился смешок. Риба насторожился и подозрительно оглядел ребят. Все с тревогой следили за Шуркой Мамкиным, который без опаски разглядывал рисунок. Наконец Шурка хихикнул, и Риба бросился к нему.
— Мамкин, дай сюда бумагу!
Шурка зажал рисунок в кулак и спрятал руки за спину.
— Дай бумагу!
Надо было выручать Шурку. Мишка нащупал в парте клетку и осторожно открыл дверцу.
— Мамкин, последний раз говорю!
И вдруг над головой ребят взвился снегирь. Он ошалело заметался по комнате, натыкаясь на стены и отчаянно треща крыльями. Класс зашумел, захлопал крышками парт, заулюлюкал. Бедный снегирь взлетел под самый потолок и уселся наконец на шкаф.
— Хулиганы! — закричал потрясённый учитель и вновь накинулся на Шурку: — Бумагу!
Шурка показал ему пустые руки.
— Ах, так! Ну погодите! — Риба помчался за Сим Санычем.
В это время прозвенел звонок, но никто не двинулся с места. Ждали Сим Саныча. Он пришёл один, и глаза у него были узкие, как бритвы. Шумно дыша, Сим Саныч сел за стол.
— Ну? — сказал он. — Ну, всё. Обормоты несчастные. — Потом добавил усталым голосом: — У кого бумага?
Класс как в рот воды набрал. Взгляд Сим Саныча пробежал по лицам ребят и остановился на Генке Звереве. Генка сглотнул слюну и поёжился. Сим Саныч поднялся, подошёл к нему и, глядя в окно, молча протянул руку. Генка, весь красный, порылся в карманах, достал пятак и положил Сим Санычу на ладонь. Сим Саныч покосился на монету, повертел её в пальцах и спрятал в карман. Потом снова протянул руку.
Генка посмотрел на него страдальческим взглядом и отдал рисунок.
— Кто рисовал? — спросил Сим Саныч.
— Я, — сказал Мишка.
— А снегиря?
— Тоже я.
— Отлично! Терёхин и Мамкин исключаются из школы на неделю.
Сим Саныч вышел, хлопнув дверью.
— «Люблю грозу в начале мая», — бодрым голосом сказал Мишка и посмотрел на товарища по несчастью. — Да ты что?
На лице Шурки было такое отчаяние, что Мишка испугался.
— Что с тобой? — повторил он. — Подумаешь, на неделю исключили.
Шурка молчал, узенькие плечи его вздрагивали, а по щекам горохом катились слёзы.
— Нюня! — грубо крикнул Мишка, потому что чувствовал себя виноватым. — Кисель клюквенный!
До конца уроков Шурка сидел как пришибленный и всё всхлипывал. Когда расходились по домам, он зачем-то побрёл к реке.
Таёжка подошла к нему и взяла за рукав:
— Погоди. Тебе же не в ту сторону. Иди домой.
— Нельзя мне домой. С меня мать всю шкуру спустит.
— Хочешь, я с тобой пойду и скажу, что ты не виноват?
Таёжка заглянула в мокрые Шуркины глаза.
— Нет, что ты! — почему-то испугался Шурка. — Не надо, я не хочу!
Но Таёжка решительно тряхнула головой.
— Пойдём, говорю!
У ворот своей избы Шурка замялся.
— Тай, только у нас дома… не тово. Ребятишки, будь они неладны…
Едва переступив порог, Таёжка всё поняла: Шурка стеснялся вести её к себе домой. Большая сиротливая комната встретила их враждебным молчанием. На Таёжку насторожённо глядело пятеро ребятишек, мал мала меньше. В углу, на облупленной деревянной кровати, лежал мужчина с жёлтым, заострившимся лицом. Когда Таёжка с Шуркой вошли, он даже не пошевельнулся. Глаза его были закрыты, и живыми казались только руки. Руки были тяжёлые и грубые, с крутыми тёмными венами.