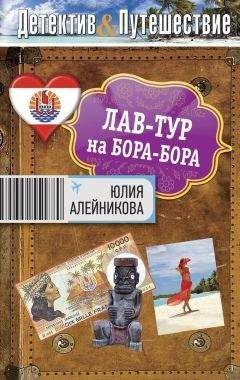— Раздевайся, — тихо сказал Шурка, снимая свою шубейку. И впервые, в этой убогой избе, Таёжка заметила, как Шурка одет.
На нём был какой-то куцый пиджачок, который делал Шуркины плечи ещё у́же, сатиновая рубашка и залатанные штаны с пузырями на коленях. Наверное, именно поэтому Шурка всегда ходил в классе бочком и мучительно краснел, когда его вызывали к доске.
— Где мама? — спросил Шурка.
— Ушла в магазин. Скоро придёт, — отозвалась девочка лет пяти, сидевшая на лавке.
— А Борька?
— Спит. — Девочка показала глазами на русскую печь.
— Что же вы так сидите? — спросила Таёжка. — Давайте поиграем.
Ребятишки было оживились, но та же девочка печально покачала головой:
— Нельзя. Мамка заругает. У нас тятьку лесиной придавило. Он теперь ходить не умеет.
— Позвоночник, — пояснил Шурка.
— Давно?
— Да уж полгода лежит.
Не открывая глаз, мужчина на кровати сказал:
— Помереть бы, да смерть заблудилась… Всех измучил.
— Вчера колхоз дров привёз, берёзовых, — будто не слыша его, сказал Шурка.
На крыльце затопали, сбивая с валенок снег. И в избу вошла женщина. У неё был жёсткий, твёрдо сжатый рот и строгое лицо.
— Это Таёжка, мама, — сказал Шурка. — Мы вместе учимся.
Женщина ничего не ответила, разделась и стала щепать лучину. Потом растопила печь. Ребятишки по-прежнему сидели по углам и следили за каждым движением матери.
— Почистите картошку, — сказала женщина.
Ребятишки уселись вокруг большого чугуна и вооружились ножами. Только самый маленький, в короткой ситцевой рубашонке, остался сидеть на лавке, прижимая к себе рыжую кошку.
— Шурка, принеси дров!
Шурка пошёл к двери.
— До свиданья, — сказала Таёжка, торопливо одеваясь.
Во дворе ослепительно белела на солнце груда берёзовых швырков.
«Когда же они это всё перепилят?» — подумала Таёжка.
— Шур, — сказала она, — ты завтра приходи в школу. А мы с Мишкой сбегаем к Сим Санычу. Он поймёт!
…В комнате Сим Саныча был стол, кровать, застланная серым одеялом, и два стула. Остальное место занимали книги. Они громоздились даже в углах и на подоконнике.
— Уйди с моих глаз! — сказал Сим Саныч Мишке. — Нечего клянчить. Всё равно не прощу.
Мишка обиделся:
— Будто я за себя просить пришёл.
— За Шурку?
Таёжка кивнула:
— Я у него дома была. Там такое, что я не могу… — Таёжка заморгала, сдерживая слёзы.
— Что, отцу не лучше? — спросил Сим Саныч.
— Нет.
— Ладно. Я тогда разозлился страшно. Пусть приходит в школу.
— И правильно, — поддакнул Мишка, оживляясь. — Было бы из-за кого, а то из-за Рибы.
— Из-за кого-о?
— Ну, из-за Анатоль Сергеича. Разве это учитель? — Мишка хмыкнул. — У нас в классе ни одной мухи нет. Все со скуки передохли.
Сим Саныч посмотрел на Мишку.
— Критики пузатые, — сказал он. — От горшка два вершка, а туда же — учителей охаивать. Посмотрим, что из тебя выйдет!
Голос Сим Саныча звучал сердито, но не очень уверенно.
— Скажете, я не прав? — продолжал наступать Мишка.
— Ладно, можешь не распинаться, — сказал ему Сим Саныч. — Ты-то всё равно исключён. Так что отправляйся домой.
— Я отправлюсь. Только у меня тут ещё дела есть. — Мишка загадочно подмигнул Таёжке. — До свиданья, Сим Саныч. А за Шурку спасибо.
— Поклонись ещё! — буркнул Сим Саныч. — Шалопай.
Мишка сидел на бревне напротив школы и ждал звонка. Изредка он вставал и подходил к окнам своего класса. Поднявшись на цыпочки, он прижимался лбом к стеклу и просительным взглядом смотрел на Витьку Рогачёва. Курочка-Ряба был обладателем старинных карманных часов. Он неторопливо доставал часы и на пальцах показывал Мишке, сколько минут осталось до конца урока: десять, семь, пять…
Наконец до Мишкиного слуха донеслось слабое дребезжание звонка.
Через минуту весь 6-й «В» высыпал на улицу.
— Достали? — спросил Мишка Курочку-Рябу.
— Сейчас принесут.
Скоро появились сияющие братья Щегловы. Они тащили две пилы и три топора.
— Надо было больше взять, — сказал Мишка.
— Как же, у нашего завхоза разживёшься, спасибо, хоть это раздобыли. — Один из братьев передал Мишке топор и потрогал зубья пилы. — Острая, и развод хороший.
У Шуркиного двора Мишка устроил короткое совещание:
— Нас двадцать человек. Значит, раз в десять дней по двое будем приходить сюда. Кто в нужный день не сможет, скажет мне. А сегодня остаёмся все.
Шуркина мать была на работе. Поэтому Мишка отрядил трёх девчонок хозяйничать в доме, а мальчишки взялись за дрова.
Повизгивая, запели тонкие пилы, полетела белая крупа опилок, сверкая на солнце, закрякали топоры. Промёрзшие березовые чурки со звоном разлетались на поленья и по конвейеру перекочёвывали в угол двора, под навес, где распоряжался Шурка Мамкин.
— А ну, пильщики, нажми! — кричал Мишка, помахивая топором. — Усну-у-ли!
— И-эх! Раз-два, взяли!
— Ставь на попа!
— Ребята, запарился! Смените!
— A-а, ёлки-моталки! Это тебе не в бабки играть!
— У меня бабка Пелагея выпить люби-ит! Раз приходит домой, а дед спрашивает: «Где пила?» — «Митрий, вот те крест святой, нигде! Ну, у кумы Авдотьи разъединую рюмочку выпила!» А дед-то про пилу говорил!.. Ха-ха-ха!
Через час дрова лежали под навесом, аккуратно сложенные в поленницу. Красные, распаренные ребята вытирали потные лбы, надевали пальто и, пересмеиваясь, расходились по домам.
На улице вокруг конских яблок весело прыгали отощавшие за зиму воробьи, искристо и нежно синели сугробы, а в Шуркиной избе впервые за полгода звенел смех.
В субботу после обеда приехал Федя. Он подкатил прямо к интернату. И Мишка, помиравший от безделья, со всех ног кинулся ему навстречу.
— Ну, цуцики, собирайтесь, — сказал Федя.
Мишка собрал свою котомку и пошёл за Таёжкой.
— Как дела молодые? — спросил Федя, садясь за руль.
— Да так. — Мишка сделал рукой неопределённый жест. — Я, можно сказать, до конца недели гуляю.
— Что так?
— Освободили. Переутомился умственно.
— А-а, — сказал Федя. — Понимаю. А за что?
— Долго рассказывать.
— A у меня, брат, рассказ короткий. Свалял дурака, ушёл из шестого, а теперь локти кусаю. Думал: много ли грамоты надо, чтобы баранку крутить? А выходит — понадобится. Не через год, так через пять. Я вот в вечернюю подался. Как вы смотрите?
— Как, нормально смотрим, — сказал Мишка.
Федя вздохнул:
— Трудно. Как сделаешь до Озёрска три рейса, так в глазах прямо цветике кружева плывут. Ты это учти, Михаил…
На зимнике у берегов лёд вздулся и посинел. Видно, в Саянах начали таять снега, и река просыпалась.
Недалеко от деревни Федя остановил грузовик и выскочил из кабины. Вернулся он с пучком распустившейся вербы.
— Вот, — сказал он, улыбаясь, и протянул вербу Таёжке. — Держи!
Серые, с жёлтым цыплячьим пушком шарики щекотали лицо, и Таёжка жмурилась от удовольствия. Верба пахла снегом, талой водой и ещё чем-то особенным, что рождается в предвесенней тишине леса.
…К вечеру они добрались до зимовья. Василий Петрович ещё не вернулся из тайги. На столе, сколоченном из горбылей, лежала записка:
«Сварите что-нибудь поесть. Продукты в погребке. Я буду часов в семь. Отец».
— Наверное, с утра ушёл. Ишь как выстыло. — Мишка дохнул, изо рта у него вылетел парок. — Тащи еду, а я пока печку растоплю.
Таёжка вышла наружу. За бором садилось большое красное солнце, и бор стоял, весь облитый его сиянием. Вершины дальних гольцов проступали чётко и резко, будто нарисованные. Тишина кругом стояла такая, что слышно было, как с окрестных сосен, вздыхая, сползает снег.
«Заколдованный лес, — подумала Таёжка. — Вот-вот на тропу выйдет Снежный Король и скажет: «Загадывай желание, и я исполню его». А мне ничего не надо. Только чтобы скорее приехала мама».
По скользким ступенькам она спустилась к погребку и толкнула обледеневшую дверь.
«Не трогай… Сплю-ю», — прохрипела дверь.
— Я быстро, — сказала Таёжка виновато и, пугаясь, вошла в полутёмный погребок.
В корзине, выстланной соломой, она нашла двух куропаток. Куропатки промёрзли и стукались друг о друга, как деревянные.
В избушке уже топилась печь.
— Ощипывать будешь ты, ладно? — Таёжка подала Мишке куропаток. — Я боюсь.
Мишка буркнул что-то насчёт бабских нервов, взял куропаток, нож и вышел. Таёжка поставила на печку ведро со снегом и посыпала сверху солью, чтобы быстрее таяло.
Через полчаса стало тепло. От ведра поднимался вкусный мясной дух. Таёжка едва поспевала сглатывать слюнки. Печка раскалилась, по бокам её забегали тёмно-красные искры. Отблеск огня лежал на Мишкином лице, и оно тоже было красным.