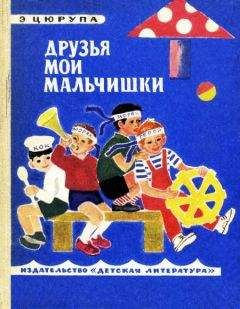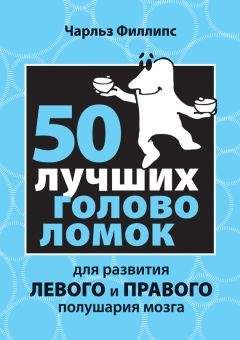По дороге раз пришлось остановиться и вылезти. Одна сковородка вдруг вылетела через борт прямо в снег. Хорошо, что встретились вертушинские девчонки на лыжах, стали махать и кричать. Спасли сковородку. Дальше Олешек вёз её у себя на коленях, в кабине.
И вот наступил день, когда папа повёл не грузовую машину, а новенький голубой автобус. Повёл его на станцию встречать отдыхающих.
Правое крыло было в полном порядке, а в левое ход закрыли и завесили занавеской, чтобы отдыхающие туда не смотрели: там ещё шла работа.
Николай Иванович напоследок всё проверял в доме. Да, правое крыло было готово к приёму гостей. Только дверь его рассердила. Он её открыл, а она спросила скрипучим голосом: «Прри-ехали?»
— Я тебе поскриплю! — буркнул Николай Иванович и сердито ткнул дверь своим лохматым сапогом.
«Скррип-лю», — ответила дверь.
Он достал из карманов отвёртку и молоток.
— Ты у меня замолчишь, — сказал он.
«Скррип-лю», — сказала дверь.
Николай Иванович прикручивал петли, подтягивал пружину, привинчивал, пристукивал. Он возился долго, и лоб у него стал мокрый от пота, и толстая шея покраснела. Он работал, пока не подъехал голубой автобус с гостями.
Тогда Николай Иванович заулыбался и открыл перед гостями дверь. И она сказала коротко и ясно:
«Прри-вет!»
Летом в лесу много тропок, а зимой одна. Все тропки и прогалинки, просеки и опушки занесло снегом. Снег стоит высокий и глубокий, несмятый, нетронутый, чуть царапнутый сверху лёгкими птичьими лапами.
Тропку люди протоптали ещё с осени. Прошли раз по первому снежку, прошли по второму, всю зиму ходят из деревни Вертушино в дом отдыха на работу. Сперва ходили штукатуры, маляры, плотники, а теперь ходят истопники, и нянечки, и дежурные монтёры, и самый главный повар Анна Григорьевна, и гардеробщица Петровна. Всё знакомые Олешку люди.
Тропка вьётся по лесу меж высоких снегов, меж старых елей. Вот она нырнула под белые воротца. Кто их выстроил среди леса? Никто не строил: это берёзка согнулась дугой под тяжестью снега. И на тонкой её веточке повис-качается снегирь с красной грудкой, клюёт мёрзлую берёзовую серёжку.
А тройка убежала дальше, в овраг. Там летом в тени вётел поблёскивала речка Вертушинка, а сейчас меж голых прутьев светло и лучисто сияет лыжня.
Лыжню проложили вчера папа с Олешком. Впереди по нетронутому снегу шёл папа, а за ним Олешек, а за Олешком Валерка на своих длинных ногах. Ноги у Валерки, как всегда, разъезжались, лыжи тыкались во все стороны, вот он и сбил лыжню. Видите, какая она стала неровная?
Сейчас Олешек идёт по лыжне один. Он идёт враскачку, без палок, размахивает руками и поёт во весь голос.
Всё тут на Вертушинке ему знакомо: поверни голову вправо — на высоком обрыве шумят сосны; поверни налево — низко склонились к замёрзшей речке вётлы; поодаль стоит чёрный дуб-раскоряка, упрямый дуб — листья на нём рыжие, мёрзлые, а он их так и не сбросил.
А вот и белка. Далеко высунулась из дупла, напряглась вся струночкой — от острых ушей до кончика хвоста. Глянула блестящим глазком — «кто идет? от кого так много шума?» — и мигом обратно в дупло.
— Да здравствует дуб-раскоряка, да здравствует белка глядючая, да здравствует тропка ходючая, да здравствует лыжня скользючая!.. — поёт Олешек свою громкую песню. Может, она и нескладная, а ему нравится.
Шапка на Олешке развязана, меховые уши торчат в стороны, на руках нет рукавиц, нос покраснел от морозца — очень весело!
Возле поваленного тополя — его ещё летом грозой повалило — лыжня выбирается на берег, и у старого колодца навстречу лыжне выбегает из леса знакомая тропка.
И вдруг Олешек замолкает и останавливается. Потому что по знакомой тропке, где ходят только знакомые люди, спускается к Вертушинке неизвестный человек. Он идёт медленно, опираясь на палку. Рыжая меховая куртка его расстёгнута, шапку он снял и держит под локтем, а голова у него совсем седая, как серебряная.
«Старый старик. Наверное, отдыхать приехал», — думает Олешек.
У поваленного тополя седой человек останавливается и кладёт руку на грудь. Дышит он громко. Потом спрашивает Олешка:
— Эй, хозяин, это ты на весь лес шумишь?
— Я, — отвечает Олешек. — А вы кто? Отдыхающий человек?
— Верно, отдыхающий.
Седой человек отряхнул большой кожаной перчаткой снег с лежачего тополя и медленно сел. Он воткнул свою палку в сугроб и осмотрелся по сторонам.
— Колодец-то у вас — прямо зенитка. Гляди, как нос в небо задрал, — сказал он.
Олешку понравилось, что простой колодезный журавель, оказывается, похож на зенитную пушку, и он скомандовал:
— Стреляй огнём по фашистскому самолёту, трах-тах-тах!
— Команду подаёшь не по уставу, командир! — Человек усмехнулся, и Олешек увидал, что он вовсе не старый, а просто седой. И глаза у него молодые, и брови у него золотистые, как ржаные колоски.
Тут ветер легонько тронул верхушки берёз, и в снег беззвучно опустилось множество крохотных двукрылых семян.
— Да ты своей зениткой целую вражескую эскадрилью сбил! — Седой человек откинул полу куртки — на груди его ярко заалели полоски орденов, — достал папиросу и прикурил от блестящей зажигалки. Потом он осторожно вытянул ногу в снег, и Олешек увидел, что нога не сгибается.
— Вы на войне раненый? — спросил Олешек.
— На войне, — кивнул человек.
— А мой папа тоже на войне был раненый, когда я ещё не родился. Только у него нога совсем зажила. А у вас не совсем?
— Не совсем.
— А вы кто, танкист были?
— Лётчик я. Был и есть. Всю войну летал. И после войны летал. — Он сильно втянул дым из папиросы. — Что на ногу смотришь? Нога, паренёк, ерунда. Ерунда! — повторил он громко, будто спорил с кем-то. — Человек может летать и без ноги, если крепко захочет. А вот когда сдал мотор — крышка!
Он наклонился и большой ладонью погладил ствол дерева.
— Экую силищу сломило. Что, старик, отслужился?
Олешку стало жаль старика тополя.
— Ничего не отслужился! — сказал он так звонко и сердито, что ворона на берёзе каркнула и боком запрыгала на ветке. — У него корни знаете какие? Во! Из них во сколько новых топольков поднялось! Наверное, сто! Они все тут под снегом сидят. Весной сами увидите.
— Весной? — задумчиво проговорил лётчик. Он отбросил папиросу, искры далеко разлетелись по снегу. — Ладно, давай-ка помолчим вместе и послушаем лес.
— А зачем его слушать? — удивился Олешек, но человек не ответил: он уже слушал лес. И Олешек тоже — задрал кверху уши на шапке и стал слушать.
Над обрывом ровно шумели сосны. Скреблись друг о друга ветками голые тополя. Ветер шёл верхом, сюда в овраг почти не долетал, и неподвижно стояли здесь, внизу, хмурые ели, чуть поводя заснеженными лапами. Едва слышно всё звучало вокруг. Это шелестела нежная, прозрачная кожица берёз — ветер потихоньку шелушил её с белых стволов, да шуршали старые хвойные иглы, падая в снег.
Вдруг наверху, над обрывом, ветер зашумел сильнее, тополя замахали грачиными гнёздами, заметались сосны, сбрасывая снег с высоких веток, и пошла там весёлая снежная заваруха. А ветер как взялся расталкивать тучи под бока — тучи посторонились и вылезло солнце. И в ясных его лучах снежная пыль, медленно оседая, ослепительно вспыхнула меж стволов.
— Взрыв света! — сам себе сказал лётчик.
— Бух-трах-та-ра-рах! — крикнул изо всех сил Олешек.
— Ты чего шумишь? — повернулся к нему лётчик.
— Потому что взрыв!
— С тобой не помолчишь, — засмеялся лётчик.
Тут неподалёку, в лесной чаще, раздался резкий дробный стук.
— А это что у вас тут за автоматчик очереди даёт, лес простреливает? — спросил лётчик.
— Он не автоматчик, а дятел, — ответил Олешек. — Я его сколько раз видал, у него пузо красное. Он на дереве сидит и головой стучит, как молотком. Быстро-быстро. Постучит и оглянется, не подкрался ли кто. Только он не просто так стучит, он личинки в коре ищет, птенцов кормить.
— Ты, брат, что-то путаешь, — сказал лётчик. — Какие сейчас птенцы, когда зима?
Но Олешка не так-то легко было переспорить.
— А после зимы всегда бывает весна! И даже лето! — громко сказал он.
— Да неужели? — Лётчик живо притянул к себе Олешка за плечи. Повеселевшими глазами он с интересом разглядывал розовую от мороза, круглую Олешкину физиономию.
— Да! — ещё громче сказал Олешек. — И тогда вылупливаются птенцы. А в Вертушинке из головастиков делаются лягушки. А из всех семечек проклюнутся ростки, зелёные!
— Ты, может, думаешь, что я глухой? — спросил лётчик.