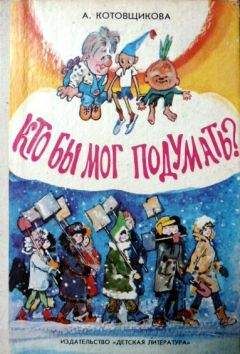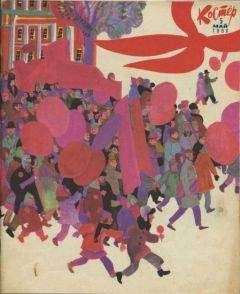Мальчонка вылез из своей норы. Был он небольшой, весь облепленный снегом, щёки красные, как спелые помидоры. Вдруг Костя заметил: один карий глаз у мальчишки слегка косит.
— Зовут тебя как?
— Акимов Анатолий Павлович, — важно ответил мальчишка. — Теперь я сам себе голова!
— Ну, вот что, голова. Отправляйся домой! У тебя уже и так нос подтекает. Поиграл — и хватит.
Мальчишка покрутил головой, прохрипел:
— Домой ходу мне нету!
— Это почему?
— Убьёт папка. Я дал дёру, он вслед: «Убью, стервец!»
— Натворил чего-нибудь?
— Радиолу я… об пол грохнул. Совсем, может, сгубилась. Навечно.
— Починить, наверно, можно. Да ты ведь не нарочно?
— А папке что нарочно, что не нарочно, всё одно. Я полез на стул и как-то сорвался. Локтем задел эту… ну, радиолу. Шуму, треску. А папка отдыхал, он с утра принял…
— Чего принял?
— Ну, напился. Не понимаешь? На работу ему идти не надо было, отгул, что ли. Как вскочит с дивана, как кинется! Я — бежать. Хорошо, в кухне успел хлеба схватить. И колбасу. Съел только уже. А лопатку в сенях. — Мальчишка зябко поёжился.
Костя положил руку ему на плечо:
— Пошли!
— Куда?
— Домой, ясное дело. Ты уже весь трясёшься, насквозь в снегу вывалялся.
Мальчишка ловко вывернулся, отскочил:
— Не пойду!
— Да никто тебя не убьёт!
— А не убьёт, так ещё хуже сделает. Его со двора сведёт! Обещался: «Ещё раз нашкодишь — совсем со двора сведу». И сведёт. Дальше сеней уже не пускает.
Мальчишка приплясывал и слегка полязгивал зубами. Мороз был небольшой, градусов семь, но ведь парень, должно быть, уже не один час по уши в снегу.
— Кого со двора сведёт? — осторожно приближаясь, спросил Костя.
— А Шарика. Я вот обживусь, к себе его возьму.
— В берлоге-то обживёшься? — Уже шага два всего отделяли Костю от зазевавшегося мальчишки. Да, Костя не ошибся: левый глаз у Анатолия Павловича Акимова немного косил. — Ты в каком классе?
— Во втором.
— В Первой школе учишься?
— Ага! А ты?
— И я в той же.
«Этот шкет старше того Васьки, — думал Костя. — И ведь сейчас нет войны, мирная, хорошая жизнь! И не замёрзнет он до смерти, простудится — факт, но застынет побольше и прибежит домой, не пропадёт… А бросить вот так его всё равно нельзя, нельзя!»
Костя ринулся к мальчишке, крепко ухватил его за руку и потащил за собой.
— Ты где живёшь?
— Пусти! Не пойду! Выискался! — орал мальчишка, вырываясь.
Он извивался, колотил Костю свободной рукой и вдруг ловко бросился ему под ноги. Оба упали в сугроб и забарахтались в снегу.
Костя сел, выплюнул набившийся в рот снег. Хватку он не ослабил, держал теперь второклассника Акимова за плечи.
— Постой! А мать твоя? Уже, наверно, ищет тебя.
Мальчишка буркнул:
— У меня мачеха. Поплачет — перестанет. Она папку больше моего боится.
Мачеха? Вот бедный-то!
Костя поднялся на ноги, поднял мальчика, кое-как его отряхнул.
— Ко мне пока пойдём. Обогреешься. А там видно будет.
Мальчишка воззрился на Костю из-под великоватой ушанки.
— И что ты ко мне привязался? — Он опять рванулся.
— Толька! — прикрикнул Костя. — Не дури! — Сгрёб мальца в охапку и поволок.
Мальчишка брыкался, ревел, пытался сесть в снег. У Кости спина взмокла, и отчего-то зачесался нос. А почесать нельзя: руки заняты. Он пригрозил:
— Вот как дам!
Прохожих на улице стало больше. На заводе кончилась дневная смена, люди спешили с работы. Мальчиков обогнала какая-то женщина. Оглянулась и приостановилась:
— Толька! Чего ревёшь? Мальчик, куда ты его тащишь? Натворил чего?
— Вы его знаете? — поспешил спросить Костя: не ушла бы! — Где он живёт?
— Да вон в тот проулок иди. Налево дом. — И повторила: — Натворил-то чего?
— Ничего не натворил. — И подумал: «Убежище совсем близко от дома устроил, дурачок! К нему придётся, до моего дома не дотащить…»
— Тебя Серафима давно ищет, все глаза проглядела, — сказала женщина Тольке и ушла.
— Видишь, ищут тебя, я же говорил! — Костя подтолкнул Тольку в спину.
— Ну и пускай! — зыркнул мальчишка на Костю глазами. Однако тащился за ним уже не сопротивляясь.
— Кто это — Серафима? — спросил Костя.
— А мачеха моя.
— Добрая она?
— Она-то что…
У калитки палисадника, за которым светился окнами одноэтажный дом, ходила взад-вперёд, тревожно оглядываясь, молодая женщина в наброшенном на голову платке. У ног её вилась небольшая остроухая дворняжка. Вдруг собака взвизгнула и опрометью кинулась к мальчикам. И вот она уже прыгает вокруг Тольки, норовит лизнуть в лицо.
— Шарик! Шарик! — Толька гладил собаку и смеялся.
Женщина бежала к ним через дорогу:
— Толик! Ну, куда ты девался? Я пришла, а тебя всё нет и нет…
— Ой! — вскрикнул Толька. — А я хлеб в снежной пещере забыл! Полбуханки.
Как-то пришёл к Дёминым человек. Пожилой, сухощавый и совсем Косте незнакомый. Конечно, человек этот хотел видеть Костиного отца. К отцу частенько заходили самые разные люди. Потолковать, посоветоваться. Ведь бригадир сборщиков Дёмин был парторгом своего цеха. И членом парткома всего завода. А может, и еще, какой общественный пост занимал.
Мама в этот день работала во вторую смену. Она была штамповщицей в другом цеху, не в папином сборочном. Костя, один дома, валялся на диване с книгой. Любимое его занятие — читать интересное, растянувшись на животе и подперев голову руками.
Незнакомец остался ждать отца.
При госте пришлось, разумеется, сесть. Склонившись над книгой, Костя краем глаза видел: гость с улыбкой его рассматривает. От этого откровенного разглядывания у Кости было ощущение, будто его медленно поджаривают на сковородке.
— Что читаешь? — спросил незнакомец.
— «Таинственный остров».
— А, Жюль Берн. Правда, интересно?
Костя кивнул.
— В Ленинграде бывал, конечно?
Костя опять кивнул.
— С отцом?
— И с мамой. И с экскурсией прошлым летом. Со школой.
— Что ж ты у нас в Ленинграде видел?
— В Русский музей ходил. Памятник Ленину на площади. У Финляндского вокзала. Много чего…
— Нравится Ленинград?
— Конечно.
— А вообще чем ты увлекаешься?
— Я-то?
Человек засмеялся:
— Не я же!
Костя покраснел, пожал плечами:
— Вообще… читать люблю.
— А на рыбалку летом ходишь?
«Вот пристал с вопросами!» — подумал Костя и ответил:
— Редко… — Чтобы не спросил дотошный собеседник, почему «редко», Костя, залившись румянцем, выдавил из себя: — А вы из Ленинграда приехали?
— Из Ленинграда, дружок. В командировку. На заводе мне сказали, что твой папаша домой пошёл. Да видно, по пути задержался. Он мне позарез нужен.
«Папа всем — позарез», — подумал Костя, стараясь не замечать весёлую усмешку на лице гостя.
Гость покачал головой:
— А ты, брат, что красная девица! Уж больно застенчив. Ростом высокий, в батьку, а… Тебе двенадцать?
Костя кивнул, хотя до двенадцати лет ему осталось дожить ещё два месяца.
— Ну, вот видишь. Не маленький уже. А чистый дичок! От застенчивости, дружок, надо освобождаться…
В этот момент, на Костино счастье, вошёл отец. И гость, и папа обрадовались, обменялись крепким рукопожатием, по плечам друг друга похлопали. И сразу начали оживлённый разговор. А Костя убрался в спальню.
Там, на папиной кровати, постепенно отдышался.
«Дичок!» Будто маму подслушал. Это она часто говорит Косте: «Дичок ты мой! И что мы оба с тобой уродились такие стеснительные да неуверенные?» Легко этому ленинградцу советовать: освободись от застенчивости! А как? Точно Костя сам не мучается!
Заговорить с незнакомым, о чём-нибудь спросить, отвечать, вот как сейчас, на его расспросы… Ну, просто невыносимо. От этой проклятой застенчивости, чтобы как-то её прикрыть, спрятать от собеседника, он иной раз даже грубым бывает. Пробурчит что-то, рявкнет, если отмолчаться не удаётся. На него, конечно, обижаются, а он и сам не рад, самому стыдно.
Ведь отчасти от этого самого — от стеснительности своей — он и вожатым быть ни за что не хотел. Ну как это он будет стоять перед кучей ребят и с ними говорить? А они все на него глядеть будут…
И вот такому Косте, «дичку», пропадающему от застенчивости, как было войти в совсем незнакомый дом, и никогда им невиданному человеку, да ещё свирепому какому-то, если верить Тольке?
А он вошёл.
Мог бы, пожалуй, и не входить, оставить Тольку с мачехой. Ведь доволок его, доставил на место, не бросил на улице…