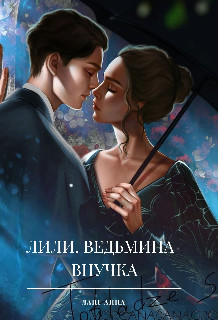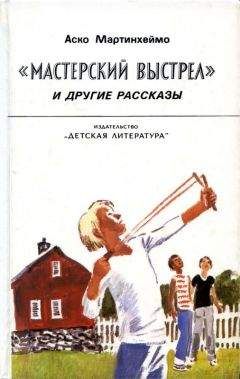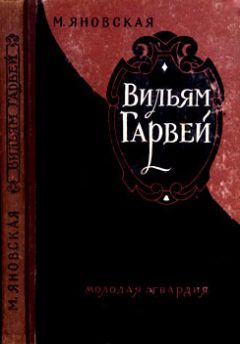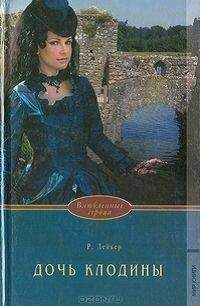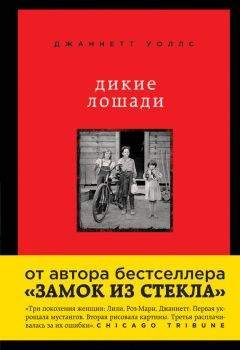и «Марио Ланца», требовали сознаться: он что, воображает себя гением? Лерой не сердился. Он добродушно соглашался с теми, кто считал его веселым чудаком, отделывался шуткой от серьезных вопросов, а тем, кто приставал, что это за штуковину он все время прячет в руке, отвечал:
— О, это мое секретное оружие. Это волшебная дудочка. Когда-нибудь я заиграю на ней и уведу вас из этого грязного, душного цеха на солнышко, где вам и положено быть.
О том, что́ Лерой прячет в руке, а заодно и о том, на что он глядит в свободные минуты, открыв свой ящик для инструментов, узнал только его напарник Кевин, который навешивал на кузова передние крюки и дверцы и прикреплял держатели для номерных знаков. Как ни хотелось Лерою, чтобы в цехе поменьше знали о его делах, отвадить этого бесхитростного великана — он был даже выше Лероя, с копной буйных меднорыжих волос и смешным певучим говором, — который совсем недавно приехал из Ирландии и пылал желанием знать всё, не только о Лерое, но и решительно обо всем на свете, у него не хватало духу.
Когда Кевин с простодушным любопытством спросил, что это за штучку он все время подносит к губам, Лерой почувствовал, что ему надо сказать правду.
— Она помогает мне петь сольфеджии, — ответил он.
— Красивое слово — сольфеджии. А что оно значит?
Лерой с грохотом швырнул на тележку тяжелую цепь с крюком, которую только что взял в руки.
— Вы там что, в этом вашем графстве Керри, с луны свалились?
— Да, графство Керри — не Дублин, что говорить, — вздохнул Кевин. — Но музыку у нас все равно очень любят. Я, бывало, все вечера напролет кручу пластинки О’Салливена, а наши соберутся и слушают.
— О’Салливен — это боксер?
— Что ты, это был такой знаменитый ирландский певец.
— Никогда не слыхал, — честно признался Лерой, — но раз ты говоришь, значит, действительно был. Всех ведь знать невозможно. А ты, пока не уехал из дому, много пел?
— Только в хоре, в церкви святого Малахия.
— A-а, это мне знакомо. — Лерой весело рассмеялся. — Скажи, ведь хочется иногда человеку излить душу, правда? А в хоре, как ни старайся, ничего не выйдет. Петь в хоре — все равно как ехать в гоночном автомобиле по городу, где тебе не разрешают делать больше тридцати пяти миль в час.
— Это верно, — кивнул Кевин, и его пламенеющий чуб подпрыгнул над высоким веснушчатым лбом. — Так как же все-таки насчет сольфеджий?
— Это такие специальные упражнения, гаммы и прочее, в разных тональностях. А эта штучка, — Лерой вытащил из кармана комбинезона маленький блестящий диск, — на ней написаны все ноты, как на губной гармошке — видишь: фа, фа диез, и так далее. Я время от времени дую в нее для проверки — не сбился ли, и шпарю дальше, а наши гиены пусть воют себе на здоровье. — И он снова расхохотался, откинув голову, потом бросился к ползущему конвейеру и ловко прикрепил крюк.
Но оказалось, что они с Кевином проболтали слишком долго, скопилось несколько машин без крюков и дверец, и теперь они задерживали рабочих, которые лихорадочно подчищали последние недоделки в конце цеха. Там конвейер начинал плавно подниматься и заканчивался площадкой, с которой кузова поднимали в воздух на прикрепленных Лероем и Кевином цепях.
Мастер передвинул сигару из одного угла рта в другой и плюнул прямо под ноги Лерою.
— Пришел сюда работать, так работай! — гаркнул он и вдруг добавил с тихой злобой: — Баритон несчастный!
— Я вовсе не бари… — начал было Лерой.
Он легко перескочил через путаницу вьющихся по полу шлангов к мастеру, но тот отвернулся и пошел прочь. Лерой со смехом развел руками перед ухмыляющимися рабочими.
— Надо же, тенора от баритона отличить не может!
И снова запел.
Через несколько дней, когда Лерой стоял возле своего ящика для инструментов и, протирая мягкой тряпкой очки, чтобы все видели, что он занят делом, украдкой заглядывал в ящик, к нему кто-то незаметно подошел сзади. Он быстро повернулся и ударился плечом о могучую грудь ирландца.
— Виноват!
— Виноват.
— Слушай, на что ты там все время глядишь? — Кевин бесцеремонно сунул голову в ящик. — Раскрой тайну.
Лерой снял с ящика свою огромную лапищу, и Кевин увидел там пачку сложенных, словно бумажные салфетки, листов бумаги, на которых было что-то напечатано.
— Никакой тайны нет, все очень просто, — улыбнулся Лерой. — Я занимаюсь музыкой и не хочу, чтобы начальство ко мне цеплялось. Ребятам-то, конечно, все равно. Я здесь выполняю кое-какие свои задания, чтобы успеть побольше. И сольфеджии я пою здесь, день незаметно и проходит.
Кевин в изумлении смотрел на него. Лицо его было как открытая книга, на нем было написано и откуда он родом, и что он за человек, и о чем он думает. Лерой видел, что Кевин никак не может привыкнуть к этому огромному заводу, к его оглушающей какофонии шумов, не может привыкнуть к черным лицам вокруг, не может понять, почему американцы насмехаются над неграми или ненавидят их — эти загадочные существа, которые так похожи и так не похожи на него.
— Ты что же, и впрямь собираешься стать певцом? — наконец спросил Кевин. — Как те, что поют в театрах?
— У каждого человека должна быть в жизни цель, — серьезно сказал Лерой. — Не знаю, как там у вас в Ирландии, но здесь, если у тебя нет цели, ты ничто. Подумай, никого не интересует, как тебя зовут, спрашивают только номер твоей страховой карточки и табеля. Если бы у меня в жизни не было ничего, кроме восьми часов в день на конвейере — и завтра, и послезавтра, и через месяц, и через год, — я бы, наверное, очень скоро сделался стариком.
Кевин внимательно слушал, скрестив на груди руки и наклонив голову к плечу.
— Обязательно нужно к чему-то стремиться. Возьми, к примеру, меня. Я готовлюсь принять участие в радиоконкурсе Метрополитен-опера. Серьезно.
— Интересная, наверное, программа. Только я ее не знаю. Я, когда наступает вечер, иду бродить по городу или пишу письма домой.
— Если тебя допустили к участию в конкурсе, это уже больше половины дела. — Лерой захлопнул ящик. — Ты поешь одну-две арии или дуэт с кем-нибудь из участниц. Понравился — все, Метрополитен-опера подписывает с тобой контракт. Не понравился — тоже не беда, ведь тебя слышат миллионы и кто-нибудь наверняка тобой заинтересуется.
У Кевина раскрылся рот.
— Неужели? Придет простой, обыкновенный рабочий с улицы — и ему разрешат петь, а вся Америка будет его слушать?
Лерой закусил губу.
— Ну,