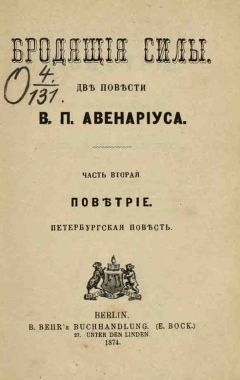— Пане возный, — отнесся князь-президент к судебному приставу, — введите свидетелей.
Свидетелями оказались двое православных пастырей: епископ Паисий и отец Никандр; и три диевские парубка, схватившие Юшку на пожаре.
Преосвященный был внесен на носилках; голова его была перевязана; в лице его не было ни кровинки, но взор был спокоен и светел; каким-то святым смирением веяло от его страдальчески изможденного лица.
Совершенную противоположность ему представлял отец Никандр. Всю ночь, должно быть, проволновавшись и не сомкнув глаз, он был в сильном нервном возбуждении и с каким-то диким ожесточением, почти с озлоблением водил кругом воспаленным взором.
Парубки переминались с ноги на ногу и поглядывали на судей исподлобья, с запуганными лицами.
— Свидетелям предстояло бы теперь juramentum (присяга), — заговорил князь Константин, — трем смердам — juramentum corporale (присяга телесная, то есть с коленопреклонением), двум священнослужителям — juramentum pectorale (с приложением руки к груди); но все они — православного закона; а священников этого закона, неприкосновенных к делу, в крае нет. Поэтому обойдемся без присяги. Но предваряю вас, свидетели, что вы должны показывать все по чистой совести.
— Слышите ли, дети мои: по чистой совести! — с одушевлением подхватил отец Никандр, выступая вперед к трем диевским свидетелям. — «А ще кто отвержется Мене пред человеки, — глаголет сам Господь наш Иисус Христос, — отвержуся и Аз его пред Отцом моим небесным». А дабы вы тверже памятовали сии слова Спасителя, целуйте на том святой крест Его.
Он обернулся к епископу Паисию, который стал снимать висевший на груди у него тяжелый золотой крест. Но князь-президент повелительным мановением руки остановил обоих и наотрез объявил, что ввиду подсудности самого епископа, принадлежащий ему крест не может уже иметь на суде законной силы; буде же свидетели желают быть допущены к крестному целованию, то могут приложиться к «пекторалю» (католический наперсный крест) ксендза-капеллана. Этому, однако, воспротивились в свою очередь как отец Никандр, так и младший Вишневецкий.
Председатель приступил к допросу. Вызвав вперед трех парубков, он предложил им по очереди рассказать все, что им знамо и ведомо о поджоге.
— Ничего как есть не знаем, ваша княжеская милость, ничего не ведаем! — единодушно загалдели все трое, земно кланяясь своему светлейшему господину.
— Так зачем же вы схватили на пожаре Юрия Петровского?
— Виноваты, князь-государь, помилуй нас!
— Аль пьяны были?
— Пьяны, батьку, пьянехоньки!
— До беспамятства?
— До беспамятства, батьку! Сами не ведаем, что творили. Не вели казнить, вели миловать!
— А много ль вам, христопродавцы окаянные, за лжесвидетельства ваше посулили, или чем вам пригрозили? — неожиданно подал вдруг голос князь Адам.
Старший Вишневецкий вспыхнул и сделал забывшемуся брату строгое внушение; затем отдал приказание отвести трех пьяниц на конюшню и «отсыпать им по полусотне».
— Спасибо тебе, князь-государь, на милостивом слове! — в один голос опять закричали те, видимо довольные, что так дешево отделались, и поспешили выбраться за двери.
Теперь настала очередь двух пастырей. Отец Никандр, как прирожденный оратор, был многословен и велеречив. Но он горячился и повторялся; а так как притом же на пожар он прибыл уже после поимки Юшки, то собственно от себя не прибавил ничего существенного к тому, что и без того было известно о пожаре из протокола. Председателю не раз приходилось останавливать расходившегося старца.
Речь епископа Паисия была гораздо короче, толковее и содержательнее. По словам его, укрытый в алтаре храма, он ночью был разбужен необычным треском, — как оказалось, от загоревшихся церковных стропил. Сквозь царские врата к нему падал уже яркий свет от быстро распространявшегося пламени. Он понял, что храм обречен огню и что самому ему грозит в нем неминуемая гибель. Ступни ног его, однако, были еще в таких язвах, что он и помыслить не смел ступать на них. И вот он пополз на руках, волоча за собою изъязвленные ноги, к вратам царским. Но тут врата разом растворились: перед ним стоял какой-то чернявый малый с дарохранительницей в руках. Увидев на полу перед собой человека, живого очевидца содеянного святотатства, поджигатель в страхе было отпрянул; но затем решил в помраченном своем разуме смертоубийством отделаться от свидетеля и занес на беспомощного старца руку. Что дальше было — преосвященный не помнил: нанесенный ему Юшкой в голову дарохранительницей удар лишил его памяти. Кто его вынес из пламени — он не ведал; слышал он только от других, что спас его добрый молодец, который сам тотчас поплатился за то жизнью. Очнулся он, владыка, только на воздухе, когда поджигатель был уже задержан.
— Записали, пане секретарь? — спросил князь Константин, когда епископ Паисий на этом закончил свои показания.
— Записал.
— Согласно выраженному его царским величеством желанию, — возгласил президент, — к даче показаний призваны были паном возным все желающие. Таковых, однако, кроме выслушанных, никого не явилось. Объявляю судебное следствие конченным. Слово за паном речником.
«Пан речник», младший Вишневецкий, выступил вперед и, вскинув на судей вызывающий взгляд, заговорил:
— Милостивые панове судьи! Человек я ратный; место мне в ратном поле и разводить долгие речи не мое дело. Был храм Божий; нету храма. Что же сталось с ним? Он сгорел — сгорел не от искры небесной: грозы не было в помине; не от шальной искры: некому было заходить туда в ночь глухую. Стало быть, храм подожжен преступною рукою. Все вы, панове судьи, были на пожарище; все, конечно, слышали, что говорилось там народом. Глас народа — глас Божий: из окна церковного, на виду у всех, выпрыгнул человек с награбленным церковным добром; а преосвященный владыка веноцкий видел человека этого и в самом храме. Кому ж, как не ему, было и подпалить храм? Здесь, на суде, правда, мы слышали сейчас другое: те самые люди, что задержали святотатца на месте преступления, теперь от всего отреклися. Почему отреклися? Не станем разбирать. Бог им да будет на том свете судиею! Но коли совесть инкульпата была бы чиста — зачем бы ему было бежать из-под стражи? Убоялся, знать, не снести головы буйной на плечах. Но вы, панове судьи, не попустите такого наглого надругания над народной святыней, вы признаете злодея виновным в злостном поджоге и изречете над ним заочно, без всякой пощады, смертную казнь; бессовестных же стражей его, утекших вместе с ним, осудите к вечной инфамии (заочное изгнание из края, с лишением всех гражданских прав).
Небольшая, бесхитростная, но вразумительная речь светлейшего «речника» произвела на присутствующую публику заметное впечатление. Значительное большинство, правда, исповедывало римскую веру и втайне не только не было возмущено поджогом православного храма, а скорее даже сочувствовало поджигателю. Тем не менее факт поджога был, по-видимому, доказан; в личности поджигателя нельзя было, казалось, сомневаться, и поджог все-таки оставался поджогом, уголовным преступлением. Как-то отнесутся к делу судьи, из числа которых один только русский царевич Димитрий открыто признает схизму?..
Пять судей за красным столом тихонько совещались между собою. Не сводя с них взора, многочисленные зрители также без умолку перешептывались с ближайшими соседями, стараясь предугадать приговор суда.
— Оправдают! Ну, понятное дело, оправдают! Кому, кроме разве этого царевича, охота осуждать человека за такую вину, которую скорее можно поставить ему в заслугу? Да и кто же, наконец, видел, как он поджигал?
— Нет, нет, глядите-ка: не один царевич князю возражает — возражает вон и патер Сераковский, да как еще убежденно, как горячо! Что это с ним, право?
Ожидание публики было напряжено до крайней степени: между судьями, очевидно, произошел серьезный раскол. Но вот, красноречие иезуита, должно быть, одерживает верх: остальные судьи внимательно слушают его, кивают уже головою, и князь-президент, с нахмуренным челом, макает в чернильницу большое лебяжье перо, чтобы начертать резолюцию суда.
Кругом воцарилось гробовое молчание. Один скрип председательского пера прерывал мертвую тишину. Дописав резолюцию, князь Константин тихонько прочитал ее еще раз своим сочленам, после чего, вместе с ними, приподнялся с сиденья. Все присутствующие шумно сорвались также со своих мест и стоя выслушали приговор, начинавшийся словами:
«Году 1603, месяца июля 22 дня.
Я, князь Константин Вишневецкий, воевода русский, а при мне его царская милость царевич московский Димитрий Иоаннович, патер ордена бернардинов Николай Сераковский, пан Флориан Рымша и пан Ярош Станишевский, смотрели дело о холопе моем Юрие Петровском, aliter Юшка, заочно обвиняемом в подпале церкви христианской закона стародавнего греческого в Диеве, жалосцского повета».