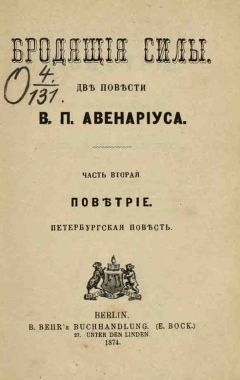По подземелью стал распространяться также едкий запах гари. А что, если часть церкви уже обрушилась и можно выбраться из нее? А то все равно ведь один конец — так или иначе погибнуть…
С обновленной энергией вскочил он на ноги, взобрался на тот самый гроб, над которым была плита, послужившая ему подъемной дверью в склеп, и попытался поднять плиту.
Но плита находилась так высоко над ним, что он едва-едва мог достать до нее рукою; да сверху на нее навалила, конечно, еще груда обломков… Несмотря на все его усилия, плита не шевельнулась.
Молодой человек не сошел, а скатился с гроба наземь. Безумная ярость отуманила вдруг его мозг, и, как дикий тур, очутившийся неожиданно в неволе, он намеренно ударился головой о стену, точно рассчитывая пробить каменную стену насквозь. Ударился он с размаха так сильно, что свет у него, как говорится, из очей выкатился.
Для него так, пожалуй, было и лучше: вполне он не приходил уже в себя. Как сквозь сон ощущал он только по временам глухую головную боль; чувствовал все сильнее запах гари; потом снова впал в полное забытье…
В старинных семейных склепах для постоянного притока свежего воздуха имелись, как известно, небольшие отдушины, проходившие через фундамент здания наружу. Такою же отдушиной был снабжен и склеп Вишневецких. Хотя она была отчасти засорена, но все же, благодаря ей, Курбский не задохнулся окончательно в душном подземелье.
Вдруг лицо его обвеяло ветром и прохладой. Он вздохнул полной грудью и открыл глаза.
Лежал он на спине под открытым небом на скате холма, где так недавно еще стояла сгоревшая теперь церковь, а над ним самим участливо наклонилось знакомое лицо молодого княжеского секретаря, раздался его голос:
— Пробудился! Хвала Богу и Пречистой Деве! Курбский сделал усилие, чтобы приподняться, но голова его закружилась, и он должен был опуститься на землю.
— Лежите, князь, лежите! — говорил пан Бучинский, суетясь около него. — Эй, хлопцы, вина сюда!
Глоток-другой старого вина произвел чудотворное действие. Пять минут спустя Курбский мог уже, хотя и при чужой помощи, сесть на подведенного ему коня. Пан Бучинский ехал с ним рядом и, держа руку на холке его лошади, дружелюбно поглядывал на него.
— Как я счастлив, князь, что мне суждено было возвратить вас к жизни! — говорил он.
— Почему вы, ясновельможный пане, называете меня все князем? — заметил Курбский, тщетно стараясь скрыть свое смущение. — Я — простой гайдук…
— Да, вы были гайдуком, но, как феникс из пепла, восстали теперь князем Курбским.
— Вы ошибаетесь, уверяю вас… Кто сказал вам?.. Верно, этот Юшка?
— Да, он.
— Так это неправда, это ложь.
— Ложь? Но и сам царевич ваш считает вас теперь князем.
— Мне очень жаль, право, что этот Юшка ввел в обман и царевича, и всех вас, пане, но прошу вас считать меня тем, чем я был доселе…
— Гайдуком? — недоверчиво промолвил пан Бучинский. — Впрочем, увидим, что скажет его царское величество. Покамест же позвольте от всей души поздравить вас с воскрешением из мертвых! Ведь, знаете ли, что вы пролежали в земле мертвец мертвецом ни более, ни менее как трое суток, и без некоей панны Биркиной никогда бы не увидали уже света Божьего.
Бледные щеки молодого князя заалелись.
— Как так?
— А вот послушайте.
С обычною сжатостью и толковостью княжеский секретарь передал все главное, что было после пожара. Горькая участь двух православных пастырей настолько поразила Курбского, что весть об отъезде Маруси Биркиной вызвала у него только подавленный вздох.
— Сейчас же как прибудем в замок, сажусь за стол и пишу к ней, — заключил свое повествование рассказчик.
— Это зачем? — всполошился Курбский.
— Как зачем! Она слово с меня взяла тотчас отписать ей, если отыщу вас живым или мертвым.
— Хорошо; так напишите ей, что вы нашли одни мои кости.
— Но ведь вы же, слава Богу, живы?
— Жив, но не для нее: для нее я умер.
— Ничего, право, в толк не возьму!
— Больше ничего не могу сказать вам. Оставьте панну Биркину, пожалуйста, в покое! Вам же, пане, еще раз скажу самое теплое спасибо; и для меня, поверьте, не будет большего удовольствия, как точно также спасти когда-либо и вас от такой опасности.
— А мне — доставить вам к тому случай, — был любезный ответ.
Глава двадцать седьмая
ИСПОВЕДЬ КУРБСКОГО
Царевич принял своего восставшего из мертвых гайдука буквально с распростертыми объятиями он прижал его к сердцу и троекратно поцеловал.
— Прежнего верного гайдука у меня, правда, уже нет, — сказал он, — но зато я обрел нового друга и товарища, столь же верного и дорогого, который не отступится от меня ни в счастье, ни в невзгоде… Так ведь?
— Отступиться не отступлюсь, как всякий верный слуга. Но ужели, государь, и ты дал тоже веру этому лгуну Юшке, будто я княжеского рода?..
— А будто нет? Гляди-ка мне прямо в очи. Царевич повернул его за плечи лицом к свету.
Курбский должен был опустить взор.
— Перед тобою, государь, не стану уже напрасно отпираться, — заговорил он и глубоко вздохнул, — поведаю тебе всю правду-истину. Но сам ты, чаю, согласишься тогда, что лучше не поминать мне моего роду-племени, лучше оставаться простым гайдуком.
— Говори, друг, говори. Но ты еле, вижу, на ногах стоишь. Садись тут; вот так. А я сяду рядом. Ну, что же? Я слушаю.
— Что родитель мой, точно, был никто иной, как князь Андрей Михайлович Курбский, первый военачальник и любимец, а потом первый заклятый недруг твоего, государь, родителя, царя Ивана Васильевича — этого скрывать мне уже нечего. Из-за чего у них разлад вышел, за кем больше правоты либо вины было — не нам с тобой, детям их, судить: оба они предстали уже пред Верховным Судьей своим. Но покойный родитель мой при жизни своей еще понес жестокую расплату за свою якобы «измену» царю и отчизне: король польский Стефан Баторий чинил ему, чужеземцу, всякие напраслины и обиды, и тем горше скорбел душой отец по своему русскому царю, который, бывало, отличал его так перед прочими царедворцами; тем пуще тосковал он по своей родной матушке Руси, что не смел вернуться восвояси. А в отцовской вере, в православном законе он оставался непоколебим и тверд до последнего издыхания.
— Но женат он был, сколько мне ведомо, на католичке-полячке? — заметил Димитрий.
— Женат он был дважды и оба раза на полячках: первой женой его была Марья Юрьевна Голшанская, второй — Александра Петровна Семашко. От первой он не имел детей; от второй нас родилось трое: дочь и два сына. Скорбно мне, государь, говорить против собственной матери своей, противу брата! Уволь же от многих слов… Был у отца один родственник, слуга и друг верный, впоследствии времени городничий луцкий, Кирилл Зубцовский. Завещал ему отец на смертном одре своем пещись о его малолетках-детях; завещал наблюсти, чтобы взросли в отцовской вере, в любви к отчизне предков — к Руси. Потщился Зубцовский выполнить завет господина и друга по мере сил своих; но… не все то в наших силах, чего тщимся! Настолько родитель мой был строг в правилах восточной церкви, настолько он был русский душою, настолько же матушка моя была строгая католичка и полячка. Старшие и любимые дети ее: дочь Марина и сын Димитрий…
— Как? Как ты назвал их: Марина и Димитрий? — перебил царевич.
— Да, государь.
— Дивное дело: точно как мы с дочерью пана воеводы Мнишка!.. Но говори дальше, что было с твоими сестрой да братом?
— Были они оба выращены нашей матушкой по-своему, а по смерти отца перекрещены в папскую веру; брат Димитрий отказался тут даже от имени, в первом крещении ему данного: зовется теперь Николаем. На меня же, оставшегося православным, все они смотрели как на чужака; а я был нравом упрям, горд, как отец. Один только дядя Кирилл (как звал я Зубцовского) был ко мне всегда равно ласков и добр; одного его поэтому любил я всем сердцем, одному ему верил. Часто и много сказывал он мне про покойного родителя, и стал мне этот покойник понемногу дороже живых сестры и брата, дороже матери. Напрасно приставила ко мне матушка воспитателя римского патера, напрасно пыталась «исправить» меня всякими крутыми мерами. Когда же мне минуло 15 лет, я напрямик объявил ей, что пусть делают со мной что хотят, но я останусь-таки русским, каким был мой отец, никогда не буду изменником отцовской вере. Тогда матушка повезла меня в Вильну, в тамошнюю иезуитскую коллегию: отцы-иезуиты должны были сделать из меня верующего католика, а затем надеть на меня и монашескую рясу: так, по крайней мере, и брат мой не должен был бы делиться со мной в отцовском наследии. Помощи ни отколе мне не чаялось. На счастье мое, на ту пору прибыло в Вильну из Москвы посольство боярина Салтыкова. При Салтыкове состоял молодой сын боярский Михнов. Случилось мне тут, как раз накануне сдачи моей в коллегию, свидеться с этим Михновым в одном вельможном доме, и — накипело у меня, знать, больно уже на сердце — поведал я ему за великую тайну все мое горе. Тронула его моя лютая участь. «Хочешь ли убегом бежать к нам на Москву и на веки-вечные отречься от родни своей?» — спросил он меня. — «Какая же они еще родня мне, коли силой из меня иезуита делают?» — отвечал я. «Так изготовься же, — молвил он, — нынче же ночью у тебя будут конь и вожатый». И точно: не занялась еще заря на небе, как я был уже далеко за Вильной.