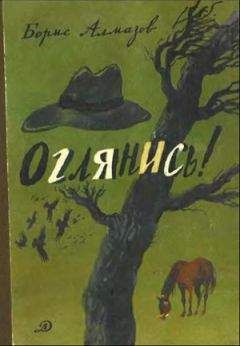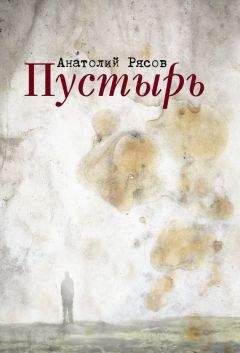— Ну? — спросил отчим, открывая Лёшке дверь.
— Приняли! — сияя ответил мальчишка.
— Ну и всё! Ну и всё! Давай к столу! Мой руки и к столу!
Стол ломился от угощения! Тут был и торт, и обожаемая Лёшкой специально переваренная в банке сгущёнка!
— Ну садитесь! Садитесь! — хлопотала нарядная по такому случаю мать.
Они пили чай с вареньем, и Колька липкими пальцами хватался щупать Лёшкины бицепсы, и пришёл Штифт с гитарой… Ну, в общем, был праздник!
Засиделись допоздна, а когда Лёшка пошёл укладываться в свою комнату мимо посапывающего Кольки, то вдруг увидел зажатую у мальчонки в руке куклу!
— «В радости и в веселии меня вспомни! За многими яствами сидя меня помяни!» — прошептал Лёшка, высвобождая из Колькиной руки невесомую, безглазую куклу с пеньковой косичкой.
«Где он её откопал? — смятенно подумал Кусков. — Ну да! Я же её там за пузуху сунул… А потом, когда меня вытащили, отчим её, наверное, в мешок положил, вот и привезли…»
Тяжёлые, мучительные воспоминания нахлынули на Кускова.
— Не хочу! Не хочу! — зашептал он. Лёшка открыл балконную дверь и, размахнувшись, швырнул игрушку в темноту. Но лихой сквозняк внёс куклу обратно, и она шлёпнулась на пол вниз лицом, как тогда в крепости. Колька заворочался во сне. Лёшка бросился поднимать куклу, словно она была живая и могла ушибиться.
Кусков затворил балкон и прижался лбом к холодному стеклу. Ночная улица светилась и помаргивала светофорами далеко внизу, машины, сверкая рубиновыми огнями, проносились по ней.
И Кусков вспомнил всё: и ночь, и светлячков, и грохот тракторных моторов, и наличники на примятой траве, и Орлика, и крепость, и Вадима…
День за днём перебирал он в памяти всё, что случилось этим летом. Не то сон, не то явь, проплывали перед ним лица деда Клавы, бабушки Насти, Петьки, Кати, Антипы.
Как он тогда сказал про Вадима: «Дурных людей не жалеют!» Значит, он Вадима дурным не считает?
Лёшка вспоминает художника: того сильного самоуверенного «человека с этикетки», что встретился ему в баре, и того растерянного и счастливого, когда он показывал рисунки и говорил, словно извиняясь: «Вот нашёл приём», и того, измазанного грязью, озлобленно бросившего мальчишке: «Мразь!»
Вадим говорил: «На эти деньги проклятые всё обменялось… способности, надежды, мечты…», «А потом останется только кран с петухом».
«Он ведь рисовать начал так… для отвода глаз! — думает Лёшка. — А потом не мог остановиться, потому что он настоящий художник, потому что у него талант… Он не может без искусства, как, например, я без дзюдо».
И мальчишке кажется, что больше это не он, не Алексей Кусков, а Вадим. И это его вводят под конвоем в судебный зал, и это рядом с ним Сява, отец. И никого, ни одного человека на свете, который бы его понял или хотя бы просто пожалел.
— Он ведь там совсем один! Совсем. Он и всю жизнь один был. Как страшно, когда совсем один… Будто в болоте тонешь. Что мне делать… Мне-то что делать? — шепчет Лёшка, прижимая к груди невесомую старую куклу.
Глава заключительная
Прощай, пустырь!
— Ты стал совсем другим, — сказал недавно Лёшке тренер.
— Каким другим? — удивился Кусков.
— Ты теперь по-другому противника бросаешь. Смотришь, чтобы он не ушибся.
— Не может быть!
— Может. Раньше, даже если бы старался, не сумел бы. — Тренер похлопал Лёшку по плечу. — С этого начинается дзюдо.
Оказалось, что многие ребята из спортивной секции живут недалеко от Кускова, и теперь часто они возвращались с тренировок вместе. Лёшка был рад этому. Ему не хотелось оставаться одному даже на минуту. Непонятная тоска постоянно мучила его. Словно он был виноват, словно нужно было что-то делать, а он ленился…
Штифта, вернее, не Штифта, а Саню Морозова ему так и не удалось уговорить записаться в секцию.
— Не! — отвечал на все уговоры Штифт, шмыгая носом. — Меня руки-ноги людям выворачивать совсем не тянет. Ещё пальцы поломаешь. Я лучше буду на гитаре учиться играть. Вот мне училка по пению говорит: «У тебя, Морозов, абсолютный слух!» Во. Как будто я знаю, что это такое.
— Это, — объяснил приехавший к Лёшке в гости Петька Столбов, — такой слух, при котором человек любой звук в природе может указать на нотоносце, ну нотами записать!
— Как это я на нотах звук покажу, если я нот не знаю! — засмеялся Штифт.
— А ты выучи! — сказал Петька. — У тебя же талант!
Штифт шмыгнул носом и весь вечер потрясённо молчал и даже два раза ходил в зеркало на себя смотреться.
Петька привёз письмо от Кати.
Там и Лёшке с Иваном Ивановичем были приветы, вот Петька и приехал в гости.
Столбов читал письмо вслух. Катя писала, что Орлик пал и его закопали в крепости. В новый посёлок перевезли жителей ещё из двух деревень. Открыли новый кинотеатр. Начали строить птицефабрику на миллион кур. Что решено из всех снесённых деревень перевезти в посёлок сады, а кроме фруктовых деревьев никаких в посёлке не сажать, чтобы посёлок стоял в саду.
«А суд был, — писала Катя. — Антипа Андреевич из города вернулся и рассказывал, что всё было как надо. По справедливости. Так что он зря опасался, всё разобрали как следует. Старики художника жалеют, хотя получил он не так много: будет отбывать в трудовой колонии».
— Где? — спросил Кусков.
— Не пишет, — ответил Петька. — А тебе что, тоже его жалко? Чего его жалеть! Получил по заслугам!
— «Ежели кто в печали человеку поможет, то как студёной водой его в знойный день напоит», — прочитал на память Лёшка.
— Чегой-то ты? — поразился Петька.
— Ничего. Это «Моление Даниила Заточника». Помнишь, читали, когда я больной лежал?
— Ну ты даёшь! — только и мог сказать Петька.
Он ещё что-то читал — о мастерских, о гончаре, о деде Клаве, — но Кусков не слушал.
«Меня вспомни! Меня вспомни!» — стучало у него в висках.
«А чем я лучше? — думает он. — Что я, не мечтал разбогатеть? Любым способом, лишь бы была куча денег! Разве и я не считал, что никому не нужен? Разве и мне не было на всех наплевать?»
«Не дай бог тебе узнать, что такое одиночество», — слышится ему вздох Вадима.
Совсем недавно Лёшке приснился Сява. Проснувшись, Лёшка долго смотрел на безглазую куклу, что поселилась на его письменном столе, и ему было стыдно, стыдно оттого, что он не вступился за Сяву, когда отец бил его.
«Не могу я так! — сказал он Штифту, после того как Петька уехал. — Вадим же там в колонии совсем пропадёт! Правильно про него егерь сказал: «Он такой, что сам себя и в тюрьме, и на воле казнить будет». Он думал, что умнее всех. Хотел взять самое интересное из крепости и отреставрировать, а вон как вышло, чуть всех не погубил… Он же себя за это проклинает! Его одного никак нельзя оставлять. Там же вокруг него типы вроде моего папаши! И он, наверное, себя хуже всех считает! Ты представляешь, какая там для него тоска!» — «От тоски вообще можно умереть, — подливал масла в огонь Штифт, сочувственно шмыгая носом. — Вон моя мамаша, как нас отец бросил, пить начала, от тоски… Еле сейчас остановилась. Я теперь ей не даю расслабляться! Она говорит: «Теперь мы с тобой, сынок, вместе, я без тебя пропаду!» Верно, пропадёт!»
После его слов Лёшка совсем не находил себе места. Он хотел разыскать Вадима, но не знал, как это делается.
«Ну вот что бы ему письмо написать мне! — сетовал он. — Я на старую его квартиру ездил, никого там нет. Новые жильцы живут, квартиру-то конфисковали, а где эта его домоуправительница — я не знаю и никто не знает». — «Как же, напишет он тебе! — вздыхал Штифт. — Он гордый. Он теперь считает, что никому на свете не нужен!» — «Это вон папаша мой уже четыре письма прислал, пишет, чтобы посылки слали, а то его новая жена его бросила. Иван Иванович уже передачу отправил».
«Неужели нет способа найти Вадима?» — мучился Лёшка.
Однажды Штифт, пряча глаза, сказал ему:
— Алёш, ты только не сердись. Я тут в районной милиции на учёте стоял, там такой есть капитан Никифоров. Толстый такой. Замечательный мужик, это он мою мамашу лечиться устроил. Ну, я это… я ему всё рассказал…
— Эх ты! — сказал Лёшка. Но не рассердился, потому что вовремя вспомнил: если бы не Штифт, лежал бы он сейчас в болоте и никто не знал бы, куда он делся.
— В общем, он тебя вызывает! Давай сходим, а? Он помочь обещал!
Капитан Никифоров, похожий на усатого моржа, долго ходил по кабинету, расспрашивал Кускова о житье-бытье, поил чаем, даже пел, а потом сказал:
— Ну уж так и быть! Уж так и быть! Так и быть уж! Приходи через две недели! Но умоляю! Никаких самостоятельных поступков! А то разведка доносит — ты после тренировок по стройкам ездишь, выспрашиваешь…
Штифт вытаращил глаза. Лёшка покраснел. Это была его тайна. Вот уже два месяца он ездил по стройкам города и искал, искал, искал Вадима!