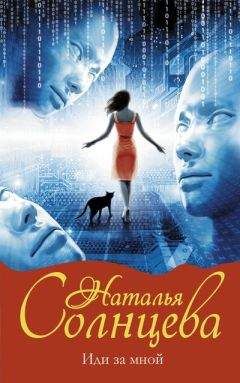— Нно! Нно! Миляга! Тащись как следует, чего ты?
Подходит Карюха к повороту, уже голову повернула, куда нужно, но Гришке мало этого, он дергает за вожжу в ту же сторону и ворчит:
— И куда тебя понесло, куда понесло?
Лошадь тащится еле-еле, а Гришка грозным голосом предупреждает:
— Я тебе побалую, я тебе поиграю.
А то еще так. Лошадь уже остановилась, а Гришка продолжает кричать:
— Тпру! Тпру, леший! Удержу на тебя нет.
Когда отец наливает воду в бочку или из бочки носит в баню, Карюха стоит, как застывшая: ухом не поведет. Можно бы и Гришке утихомириться, но нет, он и в это время суетится: то ему захочется, чтобы лошадь ногу переставила, и он командует: «А ну! Ногу, ногу!», то ему покажется, что чересседельник ослаб, и он подтягивает его, то вдруг обнаружится, что вот-вот расстегнется подпруга.
И так до тех пор, пока отец не заругается.
— Да чего ты лошадь мытаришь, чего ты над ней выкомариваешь? Отстань сейчас же!
Гришка оставляет в покое Карюху и принимается за телегу. Конечно, на телегу не покричишь, но полазить можно и вокруг нее. И Гришка лазит: трогает тяжи, спицы, проверяет, прочно ли сидят чекушки и хорошо ли смазаны дегтем колесные оси.
Да! Гришке повезло, а вот ему придется сегодня помучиться, — с такой мыслью поднялся Егорка на свое крыльцо.
Он не ошибся. Мать заранее приготовила для него кучу всяких дел, и как только он переступил порог, сразу же начал «мучиться»: укачивал Сережку, присматривал за Петькой, ходил к колодцу за водой, мел двор.
После обеда мать разрешила ему побегать на улице. Выйдя во двор, Егорка увидел мастера и начальника. Они стояли у соседнего крыльца и разговаривали. Потом на крыльцо вышел стрелочник Лукьянчиков. Егорка уселся на землю недалеко от них.
— Надо поправить, перекосило все, — Самота дотронулся носком сапога до ступеньки крыльца.
— А как его исправлять, коли все оно негодное? — спросил Лукьянчиков.
— Как-нибудь.
— Я с ним поделать ничего не смогу, — отказывался Лукьянчиков. — Да и почему только крыльцо поправлять: а гнилые подоконники и пол, а плохая печь?
— Ремонтировать будем потом, когда нам средства отпустят, — пообещал Самота, — а сейчас самое главное — крыльцо. Ты уж как-нибудь подопри его, а то, не ровен час, попадется на глаза директору дороги, ну и…
— Да, ему может не понравиться, — согласился Лукьянчиков. — А что, Степан Степанович, ежели нам так сделать. Зайдет он, допустим, в нашу ограду, увидит это крыльцо ну и все прочее и спросит: «Ну, как вы тут живете?» А я выступлю из толпы и расскажу: про сгнивший пол с подоконниками, про неисправную печку, про перекосившееся крыльцо, ну про все, про все. Может, после этого он скорее отпустит средств на ремонт?
— Да что ты, Лукьянчиков! — испугался Самота.
— Не смей! — приказал Павловский.
— Ну, а ежели он сам меня спросит, тогда как?
— Говори так, — наставлял Самота. — Все, мол, в порядке, не жалуемся, премного благодарим, живем — не тужим.
От крыльца Лукьянчикова начальство двинулось к надворным постройкам. Самота открывал двери стаек, заглядывал вовнутрь, а Павловский смотрел вверх, на сеновалы. Потом они вышли за ограду и остановились.
— Ну, Степан Степанович, — сказал Павловский, — кажется, осмотрели все.
— Осмотреть-то осмотрели, а вот дела одного не решили.
— Какого?
— Разве вы забыли про куриц?
— Черт бы побрал этих проклятых куриц!
Павловский сплюнул и, облокотившись на оградку, задумался. А Самота продолжал:
— Коровы будут в стаде. К телятам я приставлю Ельцова. Он соберет их и будет пасти весь день, а вот курицы? Как быть с ними? — Тяжело вздохнув, Самота предложил: — Давайте-ка, Константин Константинович, махнем на них рукой, а? Ведь, поди…
— Боже упаси! — Павловский откачнулся от оградки. — Оставлять кур на произвол судьбы нельзя. Вы же слышали от ревизора, что директор страшно не любит, когда по путям ходит птица.
— Слышал, слышал.
— А раз слышали, то и меры нужно принимать.
Павловский снова привалился к оградке. Задумался и Самота.
— А что, если сделать так… — прервал молчание Самота.
— Как?
— Так и сделаем, — уверенно сказал Самота. — Утром загоним всех куриц в пустые стайки и будем держать их там до тех пор, пока не уедет директор дороги.
— Великолепно! — обрадовался Павловский.
Дальше Егорка слушать не стал, потому что в его голову вдруг пришла одна интересная мысль, и он сразу же побежал в барак, чтобы обсудить ее с Гришкой.
Гришка был дома. Егорка вызвал его на улицу и рассказал о подслушанном разговоре.
— Ну и пусть загоняют, — отмахнулся Гришка. — Нам от этого не хуже и не лучше.
— А вот и лучше. Послушай, что я придумал. Когда большие уйдут на станцию встречать, мы с тобой потихонечку обойдем все стайки и откроем двери.
— Это зачем же? — не понимал Гришка.
— А вот зачем. Как только служебный поезд остановится около перрона, мы заманим всех кур на линию.
— А потом? — все еще не догадывался Гришка.
— А потом директор увидит куриц и задаст Самоте и Павловскому такого жару, что они живо узнают, как обижать рабочих, а то, ишь… житья никакого от них не стало.
— Это ты здорово придумал, — похвалил Гришка. — Я согласен. Хорошо бы еще всех кошек выгнать на линию, да не управиться.
Солнце только-только взошло, а Павловский уже успел побывать на стрелочных постах и осмотреть станционное здание и перрон. На стрелках и в здании все было в порядке, а вот на перроне опять валялись бумажки. Павловский вызвал Назарыча и заставил пройтись с метлой по перрону так, чтобы не осталось ни одной соринки.
— А потом, когда справишься с этим делом, — наказал Павловский, — обойди все квартиры и проверь, выполнено ли мое вчерашнее распоряжение: посажены ли в стайки курицы и пасет ли Ельцов телят.
Через час Назарыч сообщил начальнику, что все телята пасутся далеко от разъезда, а вот курицы еще гуляют по дворам и даже забираются на линию.
— Безобразие! — возмутился Павловский. — Иди снова и не возвращайся до тех пор, пока все курицы не будут там, где должны быть.
На этот раз Назарыч ходил дольше и вернулся на станцию, когда время уже двигалось к полудню.
— Все исполнили ваше приказание, — доложил он.
Часа за два до прибытия директора дороги прикатил на дрезине ревизор. Ему нужно было скорее осмотреть все пункты, где сегодня проедет высокое начальство, поэтому он очень торопился и разговаривал с Павловским не в кабинетике, а на перроне.
— Ну, как у вас тут? — спросил он.
Павловский вкратце рассказал.
— Вижу, вижу, молодцы, — похвалил ревизор, кивая на перрон и палисадник. — Ну, а как с гусями?
— С какими гусями? — не понял Павловский.
— С гусями, с обыкновенными…
— Я что-то того… — замялся Павловский.
— Позвольте, — затряс головой ревизор. — Разве я вам не говорил?
— Насчет скота и куриц вы нам рассказывали, и я вам уже о них сообщил, а вот про гусей слышу впервые… Впрочем, какой может быть разговор — у нас их никто не держит, так что…
— Вот это-то и плохо!
— Почему же плохо?
— Дело в том, — объяснил ревизор, — что сам он очень любит жареных гусей, и когда бывает в подобных поездках, местное начальство преподносит повару-проводнику в служебный вагон парочку ощипанных жирных гусей. Это уж как правило. Поняли?
— Понял.
— Поздновато только поняли — вот беда.
С этими словами ревизор укатил.
Изругав в душе ревизора за то, что он не сказал о гусях раньше, Павловский не на шутку встревожился. Еще бы! За многие промахи может простить вышестоящий начальник, но вот за невнимательное, безразличное отношение к себе едва ли простит. Конечно, было бы полбеды, если бы этим вышестоящим был какой-нибудь маленький чиновник, а то ведь — страшно даже подумать — им является сам директор дороги, по сравнению с которым он, Павловский, слишком маленькая величина — пешка. И он вдруг откажется уважить того, кто одним словом, росчерком пера может сделать с ним все, что угодно. Душа Павловского затрепетала еще сильнее, он с лихорадочной быстротой начал искать выхода из создавшегося положения: «Позвать немедленно дорожного мастера и посоветоваться с ним? А чем он может помочь? Заменить гусей курицами? Нельзя, ревизор ясно сказал, что директор любит гусей. Что же делать? А что если съездить в Левшино? Там озеро, и многие крестьяне держат гусей. Да, да, надо спешить в деревню».
Павловский метнулся в дежурку, но на полпути свернул в сторону и побежал к своему крыльцу. На дверях висел замок. Недолго думая, Павловский понесся к конюшне. Через несколько минут запряженная в ходок лошадь мчала его к левшинской дороге.