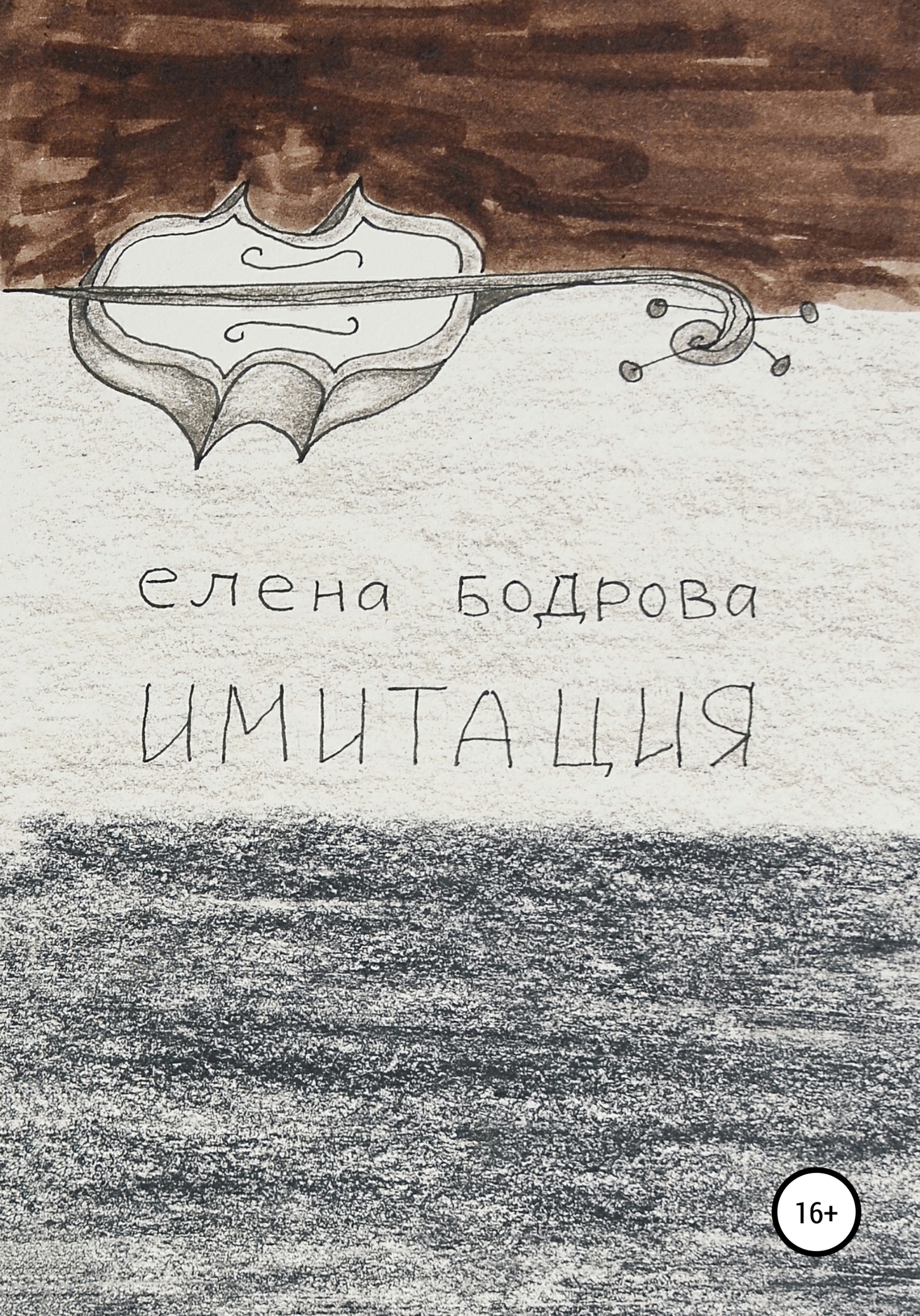под ноги. На луну наползал ватный диск облака, чтобы стереть ее с неба, но мальчик больше не смотрел на небо. Он сделал новый вдох.
— Пусть так, — проговорил он глухо. — Только… Ника тут ни при чем.
Вадим поднял глаза на Ское.
— Любишь ее?
— Я уеду, и у вас все будет хорошо.
— Любишь?
Стекло от дыхания запотевало. Ника водила пальцем, получались слова. Из слов получались строчки.
Неба узор
Голыми ветками
Лег на мокрый асфальт.
Синий твой взор,
Нежный, обветренный,
Тает, и тает, и та…
Надену свой дождь,
Пойду по проспектам
Нехоженым, тихим, ночным.
Город мой — ложь,
Он врет беспросветно
Небом безлунным, пустым.
Стихи сочинялись и тут же исчезали со стекла — стихи-невидимки. А за ними, там, во дворе, шел безмолвный разговор. Для Ники безмолвный. Она только видела, как Ское, будто от холода, прячет руки в карманы, а Вадим смотрит на него снизу вверх блестящими глазами.
Мелом на сером
Асфальте рисованный
Ты — не смываем дождем.
Линия белая
Тонкая прервана,
Мне не продолжить ее.
Люди и люди,
С домами и окнами,
Смазаны, стерты, без лиц.
Белая линия:
«Любишь?» (зачеркнуто)
«Твой нарисованный принц».
Ское замер. Воздух замер. Стекло больше не показывало стихов. Нике не было слышно, что сказал ему Вадим. Но было видно. Он молчит. Смотрит в землю, а не в небо, как обычно. Он делает неровный шаг. Жалкий какой-то шаг — словно ждет, что его остановят.
И уходит.
Уходит.
Ника старается запомнить каждый шаг — из его шагов состоит сейчас воздух вокруг нее, она их слышит, она их чувствует в своей груди: тук-тук-тук — но Ское расплывается, превращается в смазанное пятно.
Слезы мешают увидеть, запомнить, как он выходит из арки.
Погас фонарь, и там, где были качели, — чернота. Вглядывается ли эта чернота сейчас в Никино окно? Ника смотрит, она уперлась лбом в стекло. Стекло запотевает от ее дыхания, воскрешая стихотворные строчки.
«Твой нарисованный принц».
Хлопнула входная дверь. Что-то зашелестело, зазвякало украдкой. Мама старается вести себя тише — думает, что Ника спит.
Ника не спит. Она в темноте сидит у клавиш. Белые стали серыми, черные остались черными. На одной — слеза. Ника нажимает эту клавишу так, чтобы звука почти не было. Сиплое почти-отсутствие-звука.
Та музыка. Ское сидел тогда на качелях, на которых сейчас Вадим. Или уже нет его, ушел… Они легонько поскрипывали, а лицо Ское было освещено экраном телефона. Он слушал музыку, и все замирало. И Ника замирала, отгороженная от него и от музыки стеклом. Она что-то слышала тогда в этой тишине. Она слышала все.
Стихи, рожденные дыханием Ники, ложатся на музыку, как перышко на водную гладь. Покачиваются и трепещут. Ника тихонько поет.
Полоска света, пробившаяся из коридора, гаснет. Фонарь во дворе загорается вновь. Ника медленно подходит к окну. Она боится, что…
Вадим все еще там. Качели покачиваются, Вадим неподвижен. И вдруг он встает, как будто ждал этого сигнала — света фонаря, — и идет к арке. На полпути оборачивается и смотрит на Никины окна долгим взглядом. Ника прячется за шторкой, ее не видно. А он смотрит.
Потом уходит. «Арка проглатывает всех, но не всех возвращает», — думает Ника. Она подходит к пианино и закрывает крышку.
Ника сидела в классе, каждое слово казалось бетонным.
— Учебный год заканчивается, пора узнать итоговые оценки, ребята, — говорил кто-то.
Потом она что-то записывала. Она смотрела в клетки тетради. Звенел звонок, и она уходила домой. Дома она тоже смотрела в клетки тетради.
— Ника, тебя к телефону, — выкрикнула из прихожей мама.
Ника подошла. Она накрутила провод на палец, прежде чем что-то сказать. Боялась услышать…
— Ника, — проговорила трубка голосом Ское, устав пережидать тишину. А может, он услышал, как она накручивает на палец провод? — Я улетаю утром.
Ника молчала.
— Хочу попрощаться.
Она молчала. Провод кончился.
— Ника. Я надеялся тебя увидеть перед отъездом. Или хотя бы услышать.
— Улетаешь, — прошептала девочка.
— В восемь утра завтра.
Она не хотела наговорить чего-нибудь, поэтому молчала. Хотя… она не могла говорить, поэтому молчала. Надо сказать…
— Я приду.
— Если не хочешь или… можешь не приходить, Ника. Я был бы рад, но… Вадим не придет, и если ты тоже не хочешь, то… — Ское осекся и долго молчал. — Я услышал твой голос.
— Я приду.
Ника положила трубку, пока он еще что-нибудь не сказал.
«Я услышал твой голос».
Ника закрыла клеточки тетради, села за фортепиано. Положила диктофон на полочку для нот.
Ника толкнула прозрачную дверь. 7:30, уже идет посадка. Она встала в очередь. 7:32, она выложила телефон на подставку и прошла через рамку.
Мужчина оборачивал огромный чемодан упаковочной пленкой. Женщина кричала на ребенка, чтобы поторапливался. Ника смотрела по сторонам. Где, где?
Какие-то макушки сновали тут и там. Но Ское высокий, его должно быть видно. Должно же? Идет посадка. Вдруг он уже сел в самолет?
Ника увидела его. Он стоял в отдалении, ничего не оборачивал упаковочной пленкой, ни на кого не кричал, не сновал тут и там. Он засунул руки в карманы и просто стоял. Девочка подошла, он заметил ее сразу.
— Вадим, — она легонько тронула его за рукав.
— Я только пришел. Видимо, опоздал.
— Я тоже.
— 7:41.
Ское поставил сумку на ленту и обернулся. В который раз. Неужели так и придется улететь, не попрощавшись?
За стеклянной перегородкой он увидел Нику. Затем — Вадима. Они вместе. Они пришли. Они вместе… Вернуться? Махнуть им рукой?
Ское схватил сумку с ленты, огибая людей, пошел обратно. Там, за стеклом, Ника и Вадим. Они все-таки пришли. Вместе…
Ское остановился. Поставил сумку и смотрел через стекло на них. Он может выйти, они сразу увидят его. А может не выходить. Вадим сказал ему тогда… Может, лучше повернуться и уйти? Пока не заметили.
Вадим увидел его первым. Он смотрел на Ское долю секунды, затем поднял руку и махнул. Ника обернулась и тоже увидела его. Стоит за стеклянной перегородкой.
Ское поднял сумку и направился к ним. Вадим засунул руки в карманы. Ника дышала все менее ровно, к глазам начали подступать слезы, но застряли на полпути.
— Я рад, что вы пришли, — Ское смотрел на друзей как-то неловко,





![Клуб масок. Взросление Ское [litres] - Елена Эдуардовна Бодрова](https://cdn.my-library.info/books/395544/395544.jpg)