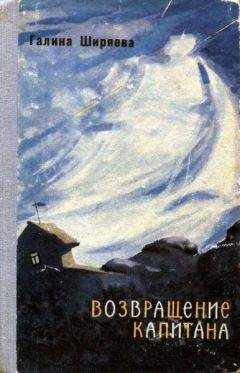А события-то начались! Начались ровно через пятнадцать минут после моего голубого разговора с Татьяной Петровной, когда ко мне пришла Марулька и, жалко краснея, опустив глаза в пол, тихим голосом попросила меня вернуть им с Татьяной Петровной те самые пуговицы, которые мы с Санькой вытряхнули из жабы.
Конечно, пуговицы были очень красивые. Я никогда еще не видела таких красивых. Большие, красные, с темными крапинками, чуть светящиеся изнутри, они были похожи на больших божьих коровок. Конечно, они были очень красивые, но я все-таки не думала, что Татьяна Петровна окажется такой жадной и потребует их назад. Все равно ведь они столько времени пролежали в жабе, и никто про них не вспоминал.
Я стянула с себя платье, швырнула его Марульке и крикнула, чтобы она подавилась своими пуговицами… Марулька еще больше покраснела, взяла со стола ножницы и стала срезать пуговицы с моего платья, неловко тыкая ножницами себе в пальцы.
— Если разобраться, они давно уже не ваши, а наши, — сказала я Марульке. — Петр Германович подарил их вместе с жабой Виктору Александровичу. Дареное даже самые жадные назад не отбирают.
Марулька вспыхнула и залепетала что-то насчет того, что если бы ее дедушка Петр Германович знал, что эти пуговицы лежат в жабе, он ни за что бы никому не подарил ее. Потому что эти пуговицы туда спрятала сестра Татьяны Петровны, Марулькина тетя, а Татьяна Петровна не знала, что она их туда спрятала. И получилось так, что теперь эти пуговицы — светлое воспоминание и что их было четыре, а не две, и Татьяна Петровна очень просит посмотреть, нет ли там, в жабе, остальных…
То ли Марулька рассказывала бестолково, то ли я невнимательно слушала, только я ничего из ее рассказа не поняла. Зачем Марулькиной тете нужно было запихивать эти божьи коровки в жабу? И зачем Татьяне Петровне нужно было их искать?
Я смотрела, как Марулька пыхтела над пуговицами, и мечтала досадить ей чем-нибудь. Я и раньше-то ее не любила, а она, как нарочно, все время тянулась ко мне. Конечно, ей не к кому было больше тянуться. Когда она каждое лето приезжала в гости к Петру Германовичу, в доме, кроме меня, никаких других девчонок не было.
— Слушай, Марулька, — говорила я ей часто, — и когда только ты от меня отщепишься, а?
— Не говори так! — восклицала Марулька. — Не говори! Не надо! Помнишь, как ты позапрошлым летом из-за меня с Колькой Татаркиным дралась? Ты же самое светлое воспоминание в моей жизни!
Любят же они с Татьяной Петровной эти воспоминания!
Марулька наконец-то срезала пуговицы, сказала «извини, пожалуйста» и ушла.
Никогда еще мне так не хотелось нагрубить Татьяне Петровне! Я бы, наверно, побежала бы к ней и нагрубила, если бы не была воспитанной. Но меня воспитали! Поэтому я лишь взяла и плюнула в потолок — туда, где раздавалось «тук-тук-тук». Это Татьяна Петровна ходила у себя по комнате, над моей головой, в туфлях на высоких каблуках… Плевок до потолка не долетел, а шлепнулся назад, мне на голову.
И тут я вдруг сразу все поняла! Конечно, это не простые божьи коровки! Конечно же, это и есть тот самый клад, о котором говорил Санька! Конечно же, именно поэтому на циферблате нет стрелок — их отодрали тогда, когда клад прятали в жабу, чтобы стрелки не врали и не показывали в ложном направлении. Конечно же, это драгоценные камни! Рубины, замаскированные под божьих коровок!
Я бросилась к жабе, схватила ее за задние лапы и принялась трясти. Ничегошеньки там больше не было!
Глава II. События в нашем доме
А я не люблю воспоминаний! Если начнешь вспоминать, то непременно вспомнишь Петра Германовича…
Когда его выносили в гробу из нашего дома, я забилась на диван под старое папино пальто и громко плакала! Это было самым большим несчастьем в моей жизни. Да и для всего города это было несчастьем.
Если когда-нибудь по радио говорили о нашем городе, то всегда в первую очередь упоминали мебельную фабрику, драматический театр и Петра Германовича, режиссера и основателя этого театра, и мы, оба полкласса — и мальчишечьи, и девчоночьи, — были от этого на седьмом небе.
Петр Германович был уже старый и седой. Седой-седой, даже белый, но лицо у него было молодое, и когда он надевал парик, то делался совсем молодым и очень красивым. Даже как-то становилось странно, когда Марулька называла его дедушкой. Я считала, что он похож на моего Вандердекена, Ленке Кривобоковой он казался похожим на Оле-Лук-Ойе, а Фаинка говорила, что он — типичный барон Мюнхгаузен.
Мы страшно любили, когда Петр Германович нам что-нибудь рассказывал. А собирал он нас у себя часто. Мы приходили к нему почти целым классом, и нам завидовала вся школа. Он знал пропасть всяких интересных, и смешных, и страшных историй.
Каждую зиму, в новогодние праздники, он устраивал у себя елку. Но на этой елке мы не пели, не скакали и не читали елочных стихов. Петр Германович гасил свет, зажигал на елке огоньки, а мы садились кружком на пол и говорили шепотом обо всем на свете: о Северном полюсе и Амундсене, о театре, о космосе, о Бухенвальдском набате. Или слушали Петра Германовича. Никогда уже в жизни у нас таких елок не будет…
На улице метет снег, за окном ветер тихонько воет, а мы сидим в полумраке и разговариваем. И ужасно хорошо на душе. И в сто раз делается радостнее, когда вспомнишь, что утром мы все вместе пойдем в театр на «Снежную королеву», где Петр Германович будет играть молодого и веселого Сказочника и будет драться на шпагах с Советником. И мы, как всегда, будем переживать за него, когда он попадет к разбойникам, а Фаинка будет над нами смеяться: «Дурачье! Это же сказка!» Один раз она высмеяла нас при Петре Германовиче. Вот уже не подумала бы, что он так расстроится. По-моему, он даже обиделся. А потом, через несколько дней, когда мы пришли к нему, он сказал нам, что сказкам нужно всегда верить, потому что в каждой сказке хоть кусочек правды есть, и тут же начал рассказывать нам жуткую и интересную сказку о двух сестрах, о Младшей и Старшей, которые жили одни-одинешеньки в целом доме. Дом был большой, но в нем, кроме них, не было никого, потому что все умерли. И мать их тоже умерла, а отец был далеко. И они жили только тем, что очень любили друг друга, но потом и любовь не помогла, потому что холод и голод оказались сильнее. И Младшая, совсем маленькая девочка умерла. Тогда Старшая завернула ее в одеяло, положила на санки и повезла на кладбище через весь город, а город был огромный и страшный.
Мы слушали Петра Германовича и ели мандарины. А Фаинка спросила:
— Если они жили в большом городе, то почему она не повезла Младшую на машине?
— Их еще не изобрели, — пояснила я Фаинке.
— Изобрели, — поправил меня Петр Германович. — Но в городе не было бензина. И электричества не было тоже… И пока Старшая везла Младшую через весь огромный город на санках, Младшая стала как льдинка. Потому что было очень холодно, был сильный мороз…
— Ну, это я знаю! — перебила его Фаинка. — Только вы не так рассказываете! Там были не сестры, а братья. Младший и Старший. И Младший не только превратился в лед, а даже разбился на куски, когда Старший уронил его.
Я тоже ту сказку о двух братьях знала, и я видела, что Петр Германович рассказывает ее не так, но я же молчала. А Фаинка у нас какая-то дубоголовая!
Так Петр Германович в тот вечер и не рассказал нам сказку до конца. Из-за Фаинки. Замолчал и задумался о чем-то. Мы уже не ели мандарины и тоже молчали. А потом стали потихоньку расходиться…
Петр Германович приехал к нам в город давно, еще до того, как я родилась. Привез с собой только ящики с картинами да чемодан, в котором были книги да еще всякая чепуха вроде медной жабы с циферблатом. Раньше он жил в Москве, а потом переехал к нам работать в театре, но все равно чуть ли не каждые два месяца ездил в Москву к Татьяне Петровне, которой мы тогда еще не знали. То просто так, то за Марулькой, которая все каникулы — и зимние, и летние, и весенние — проводила у нас в городе… А теперь Петра Германовича нет. Над его могилой стоит памятник из черного камня. А мы приносим туда цветы.
Квартира Петра Германовича наверху долго оставалась пустой и нетронутой. И ночами, когда в доме стояла тишина, а над башней скрипел и вертелся флюгер, мне почему-то становилось страшно.
Потом квартиру решили отдать Виктору Александровичу и его мальчишкам под музей, но папа почему-то все не хотел ее занимать своими горшками и черепками, словно чего-то ждал. Ждал-ждал и дождался — приехала Татьяна Петровна и поселилась в ней. Вообще-то я лично против Татьяны Петровны ничего не имела, потому что она приехала работать вместо Петра Германовича в нашем театре, да еще стала готовить премьеру того самого спектакля, который Петр Германович не успел поставить. Все-таки она была режиссером, да еще из Москвы! Театр же наш за последнее время, без Петра Германовича, вдруг стал скучным, и все вдруг начали говорить о том, что, пожалуй, театр у нас надо закрыть, потому что оказалось — город нетеатральный.