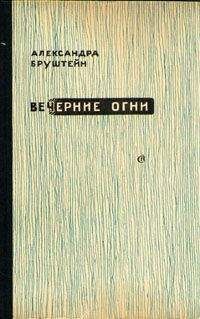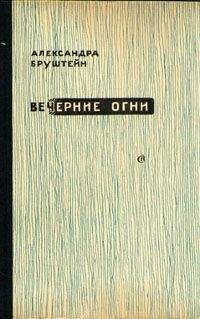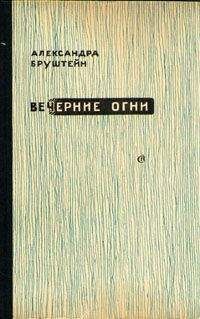Брошюра озаглавлена так:
«Дело мултанских вотяков, обвиняемых в принесении человеческой жертвы языческим богам. (Составлено А. Н. Барановым, В. Г. Короленко и В. И. Суходоевым под редакцией и с примечаниями В. Г. Короленко)».
Мы с Маней читаем с жадностью, быстро, буквально давясь, чтобы успеть прочитать брошюру. Многое из того, что в ней напечатано, мы уже знали раньше. Очень многое мы узнаем впервые. Мы читаем, потрясенные, и, когда почему-либо наши пальцы встречаются, каждая из нас на секунду удивляется тому, какие ледяные пальцы у другой.
Больше всего потрясает нас описание того, как в городе Елабуге, при втором рассмотрении дела мултанцев, суд во второй раз вынес им обвинительный приговор.
«…Несколько секунд, — пишет В. Г. Короленко, — в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер… Семь обвиненных вотяков стояли за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось…
Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе с тем я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек, с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица… В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились… Он закрыл лицо руками.
— Дети, дети! — вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывших еще более бледное лицо…
…В углу, за решеткой, за которой помещались подсудимые, стоял 80-летний старик Акмар, со слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленный и дряхлый. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.
— Православной! — говорил он. — Бога ради, ради Криста… Коди кабак, коди кабак, сделай милость.
— Тронулся старик, — сказал кто-то с сожалением.
— Коди кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может, скажут. Криста ради… кабак коди, слушай…
— Уведите их в коридор, — распорядился кто-то из судейских.
Обвиняемых вывели из зала…»
Мы прочитали. Мы с Маней смотрим друг на друга невидящими глазами. Словно мы побывали в зале елабужского суда, сами видели деда Акмара, сами слышали его наивную и трогательную мольбу, чтобы православные люди шли в кабак и прислушивались там к тому, что «калякает» (говорит) народ…
«Кто ее убивал?» То есть кто убил его, нищего Конона Матюнина, в чем обвиняют их, семерых вотяков…
Но мы с Маней не плачем. То, что мы прочитали, нанесло нам такой удар, после которого можно только, крепко стиснув зубы, сжимать кулаки, ненавидеть, но не плакать!
— Вчера приехал мой брат. Студент… — шепчет мне Маня. — Он привез список с письма, которое Короленко написал кому-то из своих друзей после второго суда над вотяками. Это в Петербурге читают все и передают друг другу из рук в руки. Возьми — и читай быстро. Скоро звонок…
И я читаю переписанное Маниной рукой письмо В. Г. Короленко:
«…Здесь приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей — шайкой полицейских разбойников под предводительством прокурора и с благословения Сарапульского окружного суда. Следствие совершенно фальсифицировано, над подсудимыми и свидетелями совершались пытки. И все-таки вотяки осуждены вторично, и, вероятно, последует и третье осуждение, если не удастся добиться расследования действий полиции и разоблачить подложность следственного материала. Я поклялся на свой счет чем-то вроде аннибаловой клятвы и теперь ничем не могу заниматься и ни о чем больше думать. Теперь для меня есть семь человек, невинно убиваемых на глазах у всей России, и я до сих пор слышу их стоны после приговора…»
— Маня… — говорю я шепотом, губы мои не слушаются, они дрожат. — А брат не говорил тебе, почему правительство делает это? Зачем?
Маня отвечает так тихо, что я слышу ее только сердцем, взволнованным и потрясенным сердцем:
— Брат говорит: правительство понимает, что все недовольны им. Оно боится, как бы недовольные не сдружились, не сговорились между собой, — тогда бы они стали сильные и сбросили это правительство! И оно науськивает всех друг против друга, одни народы против других. Вот русский народ — добрый народ, великодушный, и его натравливают на малые народы — в России очень много малых народов, — ему рассказывают о них всякие подлые басни и байки, чтобы он их ненавидел. «Вот, — говорят ему, — видишь, рядом с тобой живут вотяки? Ты с ними дружишь, ты их не трогаешь, а они — твои враги! Они убивают людей и приносят их в жертву своим богам…»
— Маня, самое последнее, говори скорее, сейчас перемена: а кто же на самом деле убил этого нищего?
— Ну, это не хитрое дело. Нашли где-то труп нищего, может быть, он спьяну умер на дороге, в лесу, или замерз. Отрубили у него, у мертвого, голову, вынули сердце и легкие, искололи труп ножом… Врачи сказали ведь, что все это сделано не на живом, а на мертвом!
Раздается звонок к перемене. Я иду из гимнастического зала как оглушенная. В голове моей мысли мечутся, как белки… Как страшно, ох, как страшно думать обо всем этом!
И вдруг, словно солнце, в уме встает мысль о Короленко. Писатель, автор «Слепого музыканта», бросил все, ринулся защищать маленький вотяцкий народ, обвиненный в людоедстве. Добился второго, а теперь уже и третьего суда! И ведь Короленко — не один. Папа сказал — «с ним все лучшие люди России»… Мне становится веселее!
На перемене Лида Карцева рассказывает мне как раз об одном из этих лучших людей России: об обер-прокуроре сената, сенаторе Кони, по заключению которого и происходит теперь третий разбор злополучного мултанского дела. Лида знает это от своего папы. Сенатор Кони, которому сенат поручил ознакомиться с этим делом и дать заключение, так и заявил: «В этом деле совершена жестокая ошибка. Обвиняются не какие-то отдельные люди, совершившие или не совершившие преступление, а обвиняется вместе с ними весь вотяцкий народ!»
Много времени спустя — через 25–30 лет — я познакомилась и встречалась с А. Ф. Кони. Было это уже после Великой Октябрьской революции, и А. Ф. Кони был уже бывший сенатор: революция упразднила сенат. Но Кони не злобствовал, как многие другие, не эмигрировал за границу: глубокий 70-летний старик, он принял революцию, он работал с Советской властью; писал воспоминания, читал лекции матросам Балтийского гвардейского экипажа и делал это с увлечением. Как-то в те годы я сказала ему: «Анатолий Федорович, когда я была маленькой девочкой, я восхищалась вашим поведением в деле мултанских вотяков!» А. Ф. Кони улыбнулся тонко и мудро и, помолчав, сказал: «Да. Это хорошее воспоминание моей жизни… Но восхищаться следует не мной, а Владимиром Галактионовичем Короленко».
Глава девятнадцатая. ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ
Двенадцатого мая начинаются у нас переходные письменные экзамены во второй класс. Первый экзамен — арифметика. Накануне начался третий суд над мултанцами.
Дрыгалка буйствует, словно вконец взбесившаяся собачонка. Нас рассаживают так, чтобы никто не мог ни списать, ни подсказать, ни помочь подруге. Скамьи установлены в актовом зале, и на них сидят девочки из обоих отделений — первого и второго, — вперемешку между собой. Справа от меня сидит «не-княжна» Гагарина, она же Ляля-лошадь, слева — Зоя Шабанова. Ляля-лошадь, обычно жизнерадостно ржущая деваха, сегодня мрачна, как зимние сумерки. Она смотрит на меня взглядом утопающей и мрачно говорит:
— Ни в зуб ногой!..
Это, очевидно, точное определение ее знаний.
Зоя Шабанова шепчет мне:
— Сашенька, поможешь?
— Конечно, помогу!
— И мне? — спрашивает с надеждой Ляля-лошадь.
— Помогу! — обещаю я уверенно.
Но это оказывается, ой, как трудно! Экзамен по арифметике, и Федор Никитич Круглов дает экзаменационные задачи и примеры так, что каждый вертикальный ряд девочек решает не то, что соседний. То же самое, что решаю я, решает та девочка, которая сидит впереди меня, и та, которая сидит позади. А соседки мои по горизонтальному ряду — справа и слева — решают другую задачу и другие примеры. Как им помочь?
Каждой из нас дано два листка бумаги — пронумерованных! — для черновика и беловика. Я делаю вид, что мне трудно, что у меня что-то не ладится: насупливаю брови, сосредоточенно смотрю в сторону. Смешно сказать, но мне действительно немного мешает непривычность того, что я вижу из окна. В классе, окна которого выходят на улицу, я привыкла видеть поверх той части стекол, которые закрашены белой масляной краской, кусок огромной вывески на доме визави: