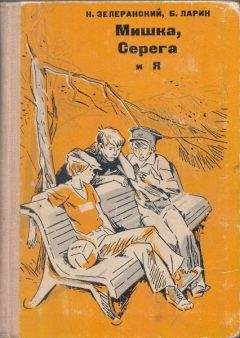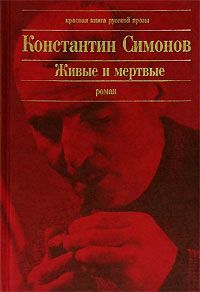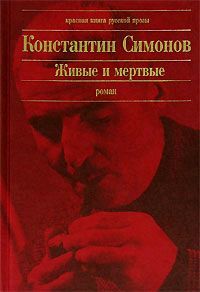В такие дни мама становится совсем тихой. Но я-то уже знаю: завтра она примется осторожно доказывать, что пианино продавать нельзя. Может быть, мальчик все-таки надумает учиться музыке. Деньги же из папиной зарплаты нужно все-таки потратить на новую школьную форму. Да и самому лапе уже пора сменить выходной костюм…
Я очень завидую Мишке. Родители не приносят ему никаких жертв. Зато и от него их не требуют. Они, например, не заставляют его надевать зимнее пальто раньше всех в классе. Далее раньше девочек.
Моя мама просто не понимает, что из-за этого несчастного пальто я теряю у ребят остатки авторитета.
Итак, я поднимался по лестнице, полный самых дурных предчувствий. Мама поджидала меня на площадке. Она куталась в шаль, это означало, что она расстроена. Я понял, что меня ждут неприятности. Сегодня все словно сговорились против меня. Геннадий Николаевич, ребята. Теперь мама. Это было уже слишком.
Если бы я был на месте мамы, мне сразу стало бы ясно, что человек из нашей семьи мог разговаривать с Марасаном только тогда, когда что-то случилось. Я мигом догадался бы, что у человека нелады с классом. Усадил бы его рядом с собой и начал осторожно расспрашивать. Может быть, даже предложил бы ему перейти в другую школу. Но мои папа с мамой из всех бед, которые могут свалиться на человека, признают только болезни и двойки. Поэтому мне и не хочется им ничего рассказывать.
Увидев меня, мама повернулась и молча пошла в квартиру. Она даже не поцеловала меня.
Когда я вошел в столовую, мама стояла у окна и смотрела во двор. Я стал молча раздеваться. Мама не выдержала первая.
— Может быть, ты все-таки объяснишь свое поведение? — спросила она.
— Я не буду обедать, — сухо ответил я, проходя мимо стола, на котором дымилась тарелка супа.
— Тогда ты не будешь есть до вечера, — строго сказала мама.
Я промолчал.
— Гарик, — предупредила мама, — я убираю со стола!
— Пожалуйста, — холодно сказал я. — А Марасан — благородный человек. Я это сегодня выяснил.
— Гарик! — возмущенно сказала мама, оборачиваясь. Тут она, наверное, заметила, что лицо у меня заплакано, и спросила уже другим, встревоженным тоном: — Что у тебя под глазами? Ты плакал?
— Ничего я не плакал.
— Сыночек, я же вижу. Тебя обидели?
— Никто меня не обижал, и ничего я не плакал.
— Сыночек, — сказала мама, еще сильнее кутаясь в шаль. — Почему ты от меня все скрываешь? Ведь лучшего друга, чем мать, ты не найдешь… Ну, не буду, не буду, — заторопилась она, увидев, что я отвернулся. — Садись обедать. Хочешь селедку? Может, тебе яичницу сделать? С колбасой?
(Яичницу с колбасой я любил больше всего на свете.)
— Не надо, — сказал я.
Саркастически улыбнувшись, я сел к столу и стал размешивать ложкой суп, как чай.
Мама густо намазала маслом кусок хлеба и положила передо мной. Я достал из хлебницы другой кусок. Без масла.
— Гарик! — умоляюще сказала мама.
Я молча продолжал жевать сухой хлеб.
— Хорошо, — сказала мама волнуясь. — Ты уже взрослый, я понимаю. Скажи мне только одно: это Марасан?
— Оставь, пожалуйста, Марасана в покое.
— А кто? — сейчас же спросила мама.
— Никто. Если ты не перестанешь меня допрашивать, я не буду обедать.
— Господи! — с тоской проговорила мама. — Как я ненавижу этот двор! Как я мечтаю поменять квартиру. Особенно с тех пор, как вернулся этот бандит. И потом еще этот Петя, которого выгнали из вашего класса. Игорь, ты давно дружишь с Марасановым?
— К сожалению, я с ним пока не дружу, — сквозь зубы ответил я.
— Не лги, — сказала мама. — Я все знаю. Как я за тебя боюсь, сыночек! Пойми, ведь у меня никого нет, кроме тебя.
— Что ты знаешь? Что?!
— Все. Я видела, как вы стояли. Два дружка. Какие у тебя с ним дела?
Это была пытка. Еще немного, и я признался бы, что мы с Марасаном ограбили квартиру.
— Гарик, — сказала мама, за подбородок поворачивая к себе мою голову. — Если ты не расскажешь мне всего, я немедленно позвоню папе.
(Наказывал меня только папа. Мама лишь говорила ему, когда меня нужно наказать. Папа всегда с ней соглашался. Я не помню, чтобы он когда-нибудь с ней не согласился. И еще папа никогда не откладывал кару. Если он говорил, что я не пойду в театр, так тут же рвал билеты. А мама прятала их и в конце концов возвращала мне.)
Я смотрел на маму исподлобья и медленно краснел от злости и обиды. Когда меня обижают, я всегда краснею и смотрю исподлобья.
— Я жду, — неумолимо сказала мама. — Гарик, я опаздываю на работу.
— Можешь ждать хоть до вечера! — закричал я со слезами и вскочил, уронив стул.
Всхлипнув, я убежал в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Я чувствовал себя ужасно одиноким. У меня оставались только мои любимые Станиславский и Блок. Да еще, пожалуй, Марасан. Единственный, кто меня понял и даже хотел защитить.
На следующее утро я, как обычно, шел в школу.
Город начинал свой день. Нестерпимо блестели стекла в верхних этажах домов. Было солнечно, ясно, ветрено. На лужах уже хрустел первый, ломкий ледок.
Я люблю такие ясные, звонкие утра. Мне кажется, что перед ними могут сниться только хорошие сны. И люди, еще не успев остыть от этих снов, бывают особенно приветливыми.
Однажды я рассказал об этом Мишке. Он удивленно посмотрел на меня и задумался. Потом спросил с любопытством:
— Слушай, как это у тебя получается?
— Что?
— Как ты это придумываешь?
— Видишь ли, — сказал я, — не помню, в какой книге написано, что человек искусства должен до тех пор смотреть, ну, скажем, на наш плафон, пока не увидит его как-то по-новому. А у меня это вошло в привычку. (Тут я заметил, что девочка из нашего класса — Аня Мальцева — с интересом прислушивается к разговору.)
— А на парту можно? — загоревшись, спросил Мишка. — Если долго с задранной головой сидеть, шея заболит.
— Можно и на парту, — согласился я.
— Значит, пока не придумаешь, на что она похожа? — озабоченно спросил Мишка.
— Ну да.
Целый урок после этого Мишка с Серёгой пялились на парту и шепотом переругивались. На перемене они подбежали ко мне, и Сперанский сказал:
— Гарик, кто прав? Я придумал, что на верблюда. Горбатая она.
— А по-моему, — сказал Серёга, — на корабль.
— Почему? — оторопело спросил я.
— Ну, сидим. Плывем к знаниям, — смущенно сказал Серёга.
Мы рассмеялись.
— Нет, — проговорил Мишка. — У обоих барахло.
Больше они не пробовали тягаться со мной. Зато часто рассказывали другим то, что придумал я. И даже гордились моей способностью видеть вещи по-своему.
Вспомнив все это, я немного пожалел, что лишился таких благородных слушателей. Но я твердо решил отныне разговаривать с одноклассниками вежливо и сухо: «Здравствуйте. До свидания. Да. Нет. Пожалуйста».
Однако в глубине души мне было стыдно. Я убеждал себя, что стыдиться должны ребята, напавшие все на одного. И все-таки стыдно было мне…
Особенно я боялся встречи с Аней Мальцевой.
Аня Мальцева. Мальцева Аня.
Она появилась в нашем классе в середине сентября. (В моей записной книжке есть календарь. Там этот день обведен кружком. А дни, когда я разговаривал с Аней, отмечены крестиками.)
Мальцева тогда только вернулась из Монгольской Народной Республики. Ее отец строил там какой-то завод.
Аня понравилась мне сразу. Она вошла в класс за минуту до звонка. Шум затих, все уставились на нее. Немного покраснев, она сказала застенчиво:
— Здравствуйте. Куда мне можно сесть?
Я и сейчас вижу, как она стояла тогда в дверях: тоненькая, легкая, смущенная тем, что ее рассматривают. (Потом ребята из старших классов, провожая ее взглядами на перемене, потихоньку расспрашивали нас о ней.)
Андрей Синицын — мой сосед по парте — подтолкнул меня и, показав глазами на Аню, многозначительно поднял большой палец. Я сказал ему: «Дурак!» — и отвернулся.
Синицын старше нас всех. Он два года сидел в шестом классе. Ребята его презирают, а девочкам он нравится. Андрей убежден, что он неотразим, потому что красив и носит отцовские костюмы. Иногда на уроках Синицын пишет записки девочкам. Но прежде чем отправить очередную записку, он подсовывает ее мне и просит:
— Проверь насчет ошибок.
Едва начался урок, Синицын сочинил записку Ане.
— Проверь, — сказал он, подвигая мне узенький листок.
Я заметил обращение: «Дорогая незнакомка!» — и строчку из Есенина: «Я красивых таких не видел», которой Андрей всегда начинал свои послания.
— Проверяй сам! — сказал я, отбросив записку так, что она упала на пол.
Андрей удивленно посмотрел на меня и, подняв листок, передал его Ане.
На перемене, когда мы собрались выходить из класса, Аня громко спросила: