Вот и лес. Он поднимается по обеим сторонам оврага. Листья на деревьях жёлтые, на земле их нападало целый ковёр.
Свернув с дороги, я шёл прямо по листьям, нарочно загребая их ногами и оставляя после себя влажный след.
Дом лесника стоял на самой опушке. Раньше около него всегда стояла повозка, лошадь жевала сено, за огородом паслись овцы и пятнистый теленок. А сейчас вокруг усадьбы было пусто, и только колодезный журавль одиноко торчал над срубом.
Я вошёл в калитку. Собака выскочила из конуры, рванула цепью, залаяла.
Из сарая вышла девочка моего возраста в наброшенной на плечи телогрейке с вязанкой дров.
— Лесник дома? — спросил я.
— Дома. Зачем он тебе?
— Нужен.
Я вошёл за ней следом в дом. В передней комнате стоял грубо сколоченный дубовый стол, широкая скамья под стеной, два табурета. Больше никакой мебели не было.
Сам лесник, сидя на корточках, раздувал в плите огонь. Когда он оглянулся, я узнал в нём того самого мужика, который дважды приходил к тётке. А раньше здесь жил совсем другой лесник.
— А, здравствуй, здравствуй, дружище! — весело воскликнул он. — Пришёл проведать? Ну, молодец, проходи, садись. Что это ты принёс?
— Сапоги, — сказал я и взглянул на его ноги.
Они были так велики, что никак не могли влезть в принесённые сапоги.
Он взял у меня правый сапог, вытащил из него стельку, а вместе с ней и маленький листик бумаги, о котором я даже не подозревал, и ушёл в другую комнату. Я остался один с девчонкой. У девчонки добрые серые глаза, в растрёпанные косички вплетены выцветшие голубые ленточки. Она мне понравилась. Только звали её нехорошо, по-деревенски — Настенькой.
— Ты в городе живёшь? — спросила она.
— В городе.
— С отцом, с матерью?
— Нет, с тёткой. Отца немцы расстреляли, а мать с сестрёнкой эвакуировались.
То обстоятельство, что я жил без родителей, видимо, тронуло её. Она с участием посмотрела на меня.
— Хочешь, я тебе молока дам? — спросила она.
— Нет, не надо… Я завтракал… — неуверенно протянул я, хотя поесть было бы очень кстати.
Настенька принесла из погреба холодный кувшин, налила мне полную кружку молока. Туда же попала пенка и сливки. Я никогда не пил такого вкусного молока!
— Налить ещё? — спросила она, когда я выпил всё.
— Нет, спасибо.
— Да ты пей. Оно у нас своё, не покупное…
В комнату вошёл лесник с хмурым и озабоченным лицом.
— Настенька, — сказал он, торопливо одеваясь. — Я ухожу. Запри дом и никуда не ходи. Положи корове корму. А ты, Серёга, кати домой. Сапоги забери назад. Скажи тётке — они мне малы.
Лесник ушёл, я тоже собрался. Настенька пошла проводить меня до поворота, до того места, где кончались лес и овраг. Дальше расстилалось грустное осеннее поле.
— Ты не боишься один? — спросила она, останавливаясь.
— А чего бояться?
— Могут немцы обидеть, или ещё что…
— А тебя уже обидели?
— У нас их почти не бывает. Один раз приезжали, забрали курей и поросёнка, и всё. Ты приходи ещё…
— Приду как-нибудь.
Я перебросил сапоги на другое плечо и зашагал по дороге. Поднявшись на пригорок, оглянулся. Настенька по-прежнему стояла на том же месте. Я помахал ей рукой.
Дорога домой показалась куда длинней. Я порядком устал, дважды садился отдыхать на пахнущую полынью обочину.
Было безветренно, тепло. Низкое небо затянуто серыми неподвижными тучами, стаи грачей кружились над степью.
Я думал о том, что Настеньке, должно быть, скучно одной в лесу. Ни подруг, ни мальчишек, не с кем поиграть… Потом вспомнил о тётке. Зачем она посылала меня в лес?
Вдали на дороге показалась грузовая машина. Густо пыля и подпрыгивая на колдобинах, она приближалась. В кузове, тесно прижавшись друг к другу, сидели полицейские. В руках у каждого автомат, за спиной вещмешок, морды хмурые. Узнал я и своего знакомого Илью Медведя.
«Куда это их черти понесли?» — подумал я, провожая взглядом спускавшуюся к лесу машину.
— Поехали искать ветра в поле, — услышал я вдруг за своей спиной чей-то голос.
Оглянувшись, увидел пожилого худощавого мужчину в старом пиджаке, в армейских ботинках, с беретом на голове. Он, должно быть, только что вышел из-за стога, стоявшего около дороги. В руках незнакомец держал жёлтый плоский чемоданчик.
— Не найдут, — уверенно сказал человек, продолжая смотреть вслед машине.
— Кого не найдут? — переспросил я.
— Партизан.
— Они ищут партизан?
— А ты думал, за орехами поехали? Держи карман…
Мужчина засмеялся, показывая целый ряд золотых зубов.
Я испуганно оглянулся и посмотрел вдаль. У самого леса машина, казавшаяся теперь спичечной коробкой, завернула в овраг, где жил лесник.
— Ты, мальчик, не бойся, — успокаивал меня незнакомец. — Не таким дуракам найти партизан. Пьяные рожи… Налетят в лесу на пень, разобьют машину и конец операции.
Незнакомец внимательно посмотрел на меня и спросил:
— А ты, сынок, где был?
— У лесника.
— Что ж ты там делал?
— Да вот… за сапогами ходил, — соврал я.
— А не боишься один?
— А чего бояться? Я не трус.
— Ты посмотри… — Незнакомец выразил на лице восхищение. — Да ты, брат, герой! Я как глянул на тебя, так сразу и решил: вот это, парень! Вот такому бы автомат в руки…
Я не понял, что он имел в виду и зачем мне автомат в руки, но слова его мне очень понравились.
Он тоже шёл в город, и по дороге мы разговорились. Звали незнакомца Константин Иванович. Он немного хромал и как-то неестественно выбрасывал вперёд левую ногу. Я почему-то почувствовал к нему полнейшее доверие и за пять минут рассказал ему всю свою жизнь. Константин Иванович охал, удивлялся, всё ему было так интересно.
— Ты зови меня просто дядя Костя, — сказал он. — Я чувствую — мы будем друзьями. Я художник. Рисую. Вот посмотри…
Он остановился и раскрыл чемоданчик. В нём были тюбики с краской, кисти, палитра. Под крышкой чемодана — фанерка, на которой нарисовано осеннее поле, вдали лес, дорога, скрывающаяся в овраге. Ну, точно место, по которому я только что прошёл.
— Похоже?
— Очень.
— То-то… Ты ко мне приходи. Я живу один. Картин у меня уйма. Научу тебя рисовать. Я страсть как люблю таких ребят, как ты. У меня есть новенький английский ножик, складной… Я тебе его, пожалуй, подарю.
Дядя Костя наговорил мне столько приятных вещей и так заморочил мне голову, что я чуть не потерял сапоги и совершенно забыл, куда и зачем ходил и что тётка давно ждёт меня.
Дома я рассказал в двух словах о посещении лесника и очень пространно — о моём новом знакомом.
Тётка слушала, хмурилась и неодобрительно качала головой.
12. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
На следующий день во дворе полиции никого не было видно. Пустота, словно всё вымерло. Один часовой одиноко расхаживал по двору с автоматом. Временами он выходил на улицу, поджидая своих друзей-полицейских. В окошках тоже торчала одна старуха машинистка. Она пришла на работу в «собачий полдник», намного позже обычного. У порога долго обтирала калоши, потом никак не могла закрыть старомодный зонт, служивший ей и зонтом, и тростью.
Прищурившись, я прикидывал, смог бы попасть на таком расстоянии ей в пенсне из рогатки или нет.
Учителя я по обыкновению не слушал, а думал о своём. Разные картины, одна страшней другой, рисовались моему воображению. То мне представлялось, как полицейские окружают кордон, выводят и связывают Настеньку, а дом и усадьбу сжигают. То будто видел издали зарево пожарищ, а подойдя ближе, находил одно пепелище: обгорелые брёвна, обугленный труп Жучки на цепи, развалившуюся печь. Или же был свидетелем неравного боя, завязавшегося в лесу между партизанами и оккупантами. Я слышал выстрелы, крики, стоны раненых, взрывы гранат…
Часа в два дня во двор въехала машина с полицейскими. На бортах отколоты щепки, очевидно, пулями, на заднем правом колесе спущен баллон, и машина накренилась набок.
На полицейских разодраны шинели, у некоторых забинтованы руки, головы. Человек пять, видимо, ранены были тяжело, и их сняли осторожно. Потом бесцеремонно стащили за руки и за ноги ещё двух, положили рядом у стены, прикрыли лица шинелями.
Один из полицейских докладывал что-то приехавшему начальнику. На перемене мальчишки прилипли к окнам.
— Здорово они их отделали…
— Двоих насмерть. Смотри, кровищи…
— Так им и надо.
— Кто же это их?
— «Кто-кто»… Дурак. Не знаешь, кто в лесу?
— Тише, директор…
13. ТЁТКА МОРОЧИТ МНЕ ГОЛОВУ
После посещения лесника я стал смотреть на тётку другими глазами. Оказывается, у неё есть ещё другая жизнь, которую она от меня скрывала. До этого она казалась мне сердитой, вечно всем недовольной, ворчливой женщиной, но теперь я видел, что она не совсем такая. Я и раньше замечал: стоило мне заговорить о полиции, о прибывших новых немецких частях, как она вдруг менялась в лице, становилась внимательной, ласковой.
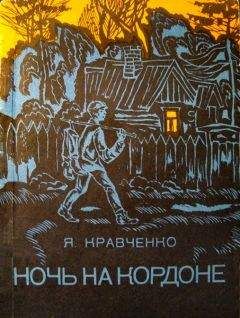
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)


