После урока Дарья Петровна подозвала меня и дала свёрнутую, как сворачивают порошки в аптеке, записку.
— Отдашь тётке, — строго сказала она, но в её голосе уже не было ни досады, ни раздражения. — Если не сможет прийти, пусть на обороте распишется, что читала.
Дарья Петровна как-то странно посмотрела на меня.
Уныло брёл я из училища. Холодный ветер, накрапывавший дождь, низкие серые тучи усиливали моё угнетённое настроение. Домой идти не хотелось. Откровенно говоря, я побаивался тётку. А последнее время она стала особенно раздражительной, и у нас с ней постоянно из-за всяких пустяков возникали стычки. Проклятая записка была сейчас так некстати! Начнет кричать: «Я тебя кормлю, я за тебя плачу, от сердца последнее отрываю…»
Не решаясь подняться на второй этаж, я спрятался в подъезде и, дрожа от холода, стал раздумывать над своим горестным положением. Вынув из портфеля записку, я осмотрел её. Она не была заклеена, я её развернул и, хотя читать чужие письма нехорошо, всё же прочёл:
«Семнадцатого на станцию прибыл Фёдор, привёз молоко. Нужно помочь ему освободить бидоны. Срочно передайте родственникам…»
От удивления у меня открылся рот. Что за чепуха? Какой Фёдор? Кто его просил приезжать? Должно быть, Дарья Петровна перепутала записки. Перевернул листок — на обороте крупным чётким почерком написано: «Екатерине Макаровне Воржевой». Нет, записка адресована ей. В чём же дело?
Я не стал долго раздумывать над странным содержанием записки, достаточно было того, что она ничем не грозила мне.
Обрадованный, я выскочил из подъезда и вприпрыжку побежал по лестнице на второй этаж.
— Тётя! — закричал я с порога. — Какой-то дядя Федя молоко нам везёт.
— Тише ты…
Тётка взяла за угол записку, внимательно посмотрела на неё, потом положила на стол, вытерла мокрые руки о фартук, надела очки и, взяв бумажку, ушла к окну.
Я следил за выражением её лица.
Прочитав записку, тётка не удивилась и ничего не сказала. Как ни в чём не бывало она взяла нож и принялась крошить капусту.
— Ну что? — спросил я её.
— Это не нам.
— А кому же?
— Другим людям.
Не знаю, почему, но я почувствовал, что дело тут не в молоке и что тётя что-то скрывает. По всему видно, что ей стоило больших усилий казаться спокойной.
«Ну хорошо, — подумал я, — посмотрим, что из этого выйдет». Я даже был уверен, что завтра мне в училище не идти. Так оно и вышло.
На рассвете тётка разбудила меня.
— В лес идти? — живо спросил я, сбрасывая одеяло.
— Да.
— Сапоги нести?
— Да.
Тётка отвернулась, отошла и стала шарить в шкафу. Моя сообразительность ей не понравилась.
Я быстро оделся, взял на дорогу кусок хлеба, зубок чеснока, перебросил через плечо сапоги и отправился.
Выйдя за город, я сейчас же вынул из правого сапога стельку — под ней лежала та самая записка, которую написала Дарья Петровна. Теперь сомнений не было. Учительница сообщала тётке какие-то тайные сведения, а та переправляла их в лес. Кому? Дураку понятно — кому. Людям, которые живут и прячутся в лесу и которым нельзя показываться немцам.
Мне стало радостно, что Дарья Петровна и моя тётка заодно с этими людьми и что я, мальчишка, помогаю им. Было только обидно, что они скрывают это от меня, а ведь мне уже почти двенадцать.
На шоссе до самого горизонта стояла колонна немецких автомашин. Что-то там случилось. Мотоциклисты сновали взад-вперёд, офицеры размахивали руками. Перебраться на ту сторону не было никакой возможности. Я спустился в разрушенный блиндаж и, высунув голову, наблюдал. Судя по этой суматохе, на фронте у немцев дела шли не блестяще.
Только к обеду колонна тронулась, и я благополучно пересёк шоссе.
К леснику я попал уже к вечеру, когда темнело. В окошке светился слабый огонёк. Постучал в калитку. Во дворе залаяла Жучка, хлопнула дверь, и с крыльца крикнул лесник:
— Кто там?
— Это я, Серёжа. От тёти Кати…
Лесник мгновение прислушивался к моему голосу, потом спустился и открыл калитку.
— Заходи. Что так поздно?
— Сапоги принёс.
Он обнял меня за плечи, и мы вошли в дом. В комнате почти темно. Маленькая коптюшка освещала только полстола и часть стены с висевшими на гвозде ножницами.
Настенька сидела на скамейке и чистила над ведром картошку. В печке трещали дрова.
— Серёжа пришёл! — радостно закричала она без всякоко притворства. Глаза у неё так и засияли. — А я уж думала, что ты больше не придёшь…
Лесник взял у меня сапоги и, не таясь, вынул записку. Придвинувшись к свету, прочел. Потом сжег её и пепел растоптал сапогом. Скрестив на груди руки, стал задумчиво расхаживать по комнате.
— Вот что, — сказал он, останавливаясь. — Мне сейчас придётся уйти, есть неотложное дело. Ты, Серёжа, останься у нас ночевать. Уже темно, идти тебе некуда. Да и Настеньке одной страшно. Я вернусь только к утру. Запирайтесь и никого не пускайте.
Лесник надел телогрейку, сверху — грубый плащ защитного цвета с капюшоном, на ноги натянул болотные сапоги.
В дверях остановился, задумавшись.
— Серёга, — сказал он, — ты мужчина, ты остаёшься за старшего. С тебя весь спрос.
Мы остались одни. Было немножко жутко. Тусклый свет коптюшки на столе, вой ветра и шум деревьев за окном, жалобный лай собаки — всё это вызывало смешанное чувство страха, таинственности и тревожного волнения.
Сев у печки, мы варили картошку. Хорошо смотреть на пляшущие языки пламени, чувствовать на лице его жар, подкладывать сучья.
Настенька, обхватив колени руками, задумчиво смотрела на огонь.
— Молодец, что ты пришёл, — говорила она. — У нас скучно, кругом лес и всё. А людей нет. Отец уйдёт на целый день, и я одна. А то иной раз и ночью не приходит…
— И ты одна ночуешь? — ужаснулся я.
— Одна.
— И не боишься?
— Боюсь. Запру двери, заберусь на печку, укроюсь одеялом с головой, чтоб ничего не видно и не слышно было, и лежу. А всё равно слышу, как в трубе ветер завывает, заслонка хлопает. Страшно… Когда коптюшка горит, ещё ничего, а без свету — ужас! Дрожу под одеялом, не сплю. Чуть что стукнет, так у меня вот тут и оборвётся, — она приложила кулачок к груди.
Я подумал, что Настенька хоть и боится, всё же она смелая. Я б один ни за что не остался ночевать.
— А волки тут есть? — спросил я.
— Есть. За войну развелись. В яру лошадь убитая лежит, так они её каждую ночь грызть приходят.
— Что ж отец не подстрелит?
— Ружья нет, немцы отобрали.
Картошка закипела, крышка на кастрюле поднялась, и пена с шипением полилась на раскалённую плиту. Настенька сдвинула крышку. Картошка покипела ещё. Потом Настенька сняла кастрюлю, слила воду и поставила на стол.
Весело было есть горячую дымящуюся картошку. Ели мы её без хлеба, чуть-чуть посыпая крупной серой солью и прикусывая чесноком. На стене от наших фигур шевелились огромные фантастические тени.
— Настенька, а где твоя мать? — спросил я, когда кончили есть.
— Умерла. Как только я родилась, так она сразу и умерла. Я её не помню. Я всегда с отцом жила. Я ему все делаю: варю, стираю, штопаю. Я и шить умею, но не очень хорошо. Недавно себе сарафанчик сшила: вот тут вытачки, рукава фонариком, поясок… Завтра покажу.
Некоторое время помолчали.
— А что, у вас бомбят? — спросила Настенька.
— Редко. Наши ж не будут своих бомбить.
— А где вы еду берёте?
— С поля таскаем. В деревню тётка ходит менять…
— Ты возьми у нас пшена, у нас много.
— Не-е… Не надо.
Пламя коптюшки треснуло, мигнуло. Едкий дымок поднялся струйкой. Время было спать.
Настенька постелила себе на широкой скамье у стены, мне принесла с чердака две охапки пахучего сена, растолкла на полу, положила на него мою телогрейку — и постель готова.
Коптюшку потушили, и стало так темно, что хоть смотри, хоть не смотри — одна чернота.
Я растянулся на сене. Хорошо пахло мятой, чабрецом, полынью.
Прислушиваясь к шуму ветра за окном, изредка переговаривались, шёпотом.
— Кто это скребётся под полом? — спрашивал я.
— Мыши. Зимой они в жильё лезут.
— А почему собака воет?
— На непогоду.
— А может, волков чует?
— Может, волков.
Жучка во дворе опять жалобно и протяжно завыла, загремела цепью, порыв ветра царапнул ветками тополя по окну, и снова тихо…
Проснулись мы на рассвете от громкого стука в дверь.
Настенька проворно соскочила с лавки.
— Это я, Настенька… Открой, — послышался голос её отца.
Лесник вошел, нагнувшись в дверях и напустив полную комнату холода.
— Подъём! — зычно крикнул он. — Спать не время. Серёга, быстро собирайся домой. Понесёшь тётке кой-чего из продуктов. Скажешь, что я сделал всё, что нужно. Завтракать некогда. Настенька, собери ему на дорогу поесть.
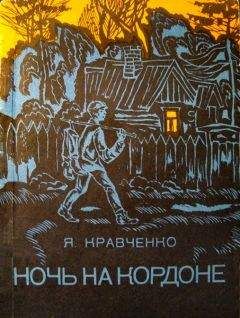
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)


