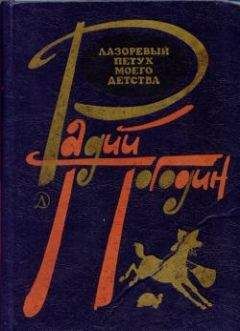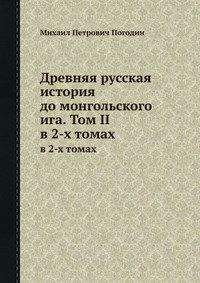— Книжки тоже. Всему хорошему в нас мы обязаны книгам. Видала, какие растрепанные? Их уже, наверно, миллион людей прочитали. Я их берегу, подклеиваю. Кстати, в «Трех мушкетерах» миледи — рыжая. — Аркашка хихикнул, запустил обе руки в свою надерганную челку. — Я иногда читаю и задумываюсь. Что мешает людям спокойно жить? Все говорят: подлецы мешают. И в книжках тоже. Какой-нибудь подлец всем кровь портит. Тысячи людей его ищут, не могут найти: он — как блоха в темноте. Я, значит, задумался: кто же эти подлецы все-таки? Как бы их сразу узнавать, ну, как лошадь или кошку, уже при рождении. Родился подлец — сразу на него карточку заводить спецучета и глаз с него не спускать. — Аркашка посмотрел на Ольгу с опаской.
— А ведь действительно, — сказала Ольга. — Подлецы, подлецы, кто же они по природе? Откуда берутся?
Аркашка вытащил из тайника еще пачку книжек, поновее.
— Про шпионов, «Волчье логово». Здесь рыжих штук двадцать. Все самые кровососы фашисты — рыжие. Русский изменник, в прошлом вор, — рыжий. Шпион-диверсант тоже рыжий. Хочешь, дам почитать? Не оторвешься.
— Не хочу.
— А вот эту хочешь? «Оливы, оливы». Про нашего разведчика в Италии, во время войны.
Ольгой овладело беспокойство, она напряглась вся.
— В ней тоже есть… эти?
— Полно, — грустно сказал Аркашка. — Фашистский фельдфебель, женщина-предательница и целый взвод карателей. Этот взвод так и назывался — «Рыжая банда».
— Значит, ты думаешь… Значит, вот ты как думаешь!
— Ну да, а как же мне было иначе думать? Если в книжках как подлец, так обязательно рыжий. Я даже рацпредложение написал: если все рыжие — подлецы, то почему милиции не переловить их всех и не упрятать куда-нибудь подальше? Я это сочинение дяде Шуре отдал, который разнимал нас. Он всех знает, даже главного комиссара милиции.
— Ну и что?
Аркашка посмотрел на Ольгу, хмыкнул.
— Он тоже спросил: «Ну и что?» А я ему афоризм: «Я мыслю, — значит, живу». А он говорит: «Не тем местом мыслишь». Взял с меня слово, что буду молчать до гроба жизни, потом снял с себя ремень, а с меня снял штаны. — В этом месте повествования Аркашка хлюпнул носом и возмущенно бровями двинул. — Еще лупит, да еще и приговаривает: «Мелкие мысли назойливее насекомых. К тому же от них труднее избавиться. Избавляйся и меня за помощь благодари». А потом говорит: «Если живешь, научись мыслить шире». А еще родной дядя. Я два дня не мог за роялем сидеть. Мне еще и от бабушки попало за то, что плохо играл. Короче, мы друг друга не поняли. Короче, я решил действовать самостоятельно… Ты была первая.
— Но это же хамство, — сказала Ольга.
— Что хамство?
— Хамство так думать. И эти книжки хамские.
Они помолчали оба, в грусти и в недоумении. Аркашка еще посопел вдобавок, потер свои горемычные уши.
— Зачем ты уехала с Севера? Там тебя, наверное, меньше дразнили.
— Одинаково. Просто там меньше народу. А уехала потому, что в школу. Где мы раньше жили, там школа была, там большой поселок. Сейчас моих папу и маму перевели в океан. А мне либо на Диксон, в интернат, либо сюда, к бабушке. Мы решили — пусть я лучше сюда поеду.
Они опять помолчали.
Воробьи, видя такое дело, взялись за охоту. Ведь как ни говори, свой желудок гораздо требовательнее чужого горя. Пустились мух ловить. Роскошные осенние мухи гудели и нахально кусались.
Аркашка поймал одну муху с выпученными глазами, оторвал ей крылья.
— Мухи гады! Мухи гадят! Мухи мучают людей! — пропел он.
Ольга подняла опавший лист, разгладила его на колене.
— Почему опавшие листья никто не называет падалью?
— Они красивые.
— Но ведь они тоже рыжие.
Аркашка задумался.
— Ха, — сказал он. — Осенью все листья рыжие. Все, понимаешь? Если бы все люди были рыжими, никто бы на тебя и внимания не обратил. Стань как все и живи себе преспокойно. Слушай, давай мы все-таки тебя перекрасим.
— Чтобы перекраситься, в парикмахерскую идти нужно.
— В парикмахерской не перекрасят. Ты еще несовершеннолетняя. Тебе сколько?
— Двенадцать.
— Прогонят.
— А как же тогда?
Аркашка подумал. Когда он думал, то втягивал голову в плечи. И чем крепче думал, тем глубже втягивал голову, словно старался плечами заслонить свои горемычные уши.
— У нас в квартире одна тетка живет, Зоя Борисовна. У нее всяких красок навалом. Я у нее стяну что-нибудь подходящее. Тебе какой цвет?
— Лучше бы черный, — сказала Ольга.
Аркашка помчался домой.
Ольга взяла книжку из Аркашкиного тайника, развернула. Стала читать:
«Велик ваш грех перед господом нашим. Мерзкие отродья дьявола бродят по нашей планете, оскверняя образ божий, по которому он создал нас с вами. Я, ребята, имею в виду рыжих. Разве этот богомерзкий цвет волос был у наших прародителей, некогда изгнанных из рая? Нет, и тысячу раз нет! Рыжий цвет пошел от дьяволицы Лилит…»
Ольга застонала, рванула себя за волосы.
— За что? — сказала она. Сгребла книжки в охапку и запихала их обратно в тайник, словно в печку. И привалила камнем.
Прибежал Аркашка с красивой черно-белой коробкой в руках.
— Будешь как Кармен. Вот. «„Суппергаммалонель“ черный, — прочитал он надпись на коробке. — Подкраска для волос. Дает черный глубокий цвет с блеском. Нетоксична. Укрепляет корни волос. Придает волосам пышность. Одновременно является средством от облысения. Особо рекомендуется при раннем поседении. Подкраска легко смывается».
Ольга взяла коробку.
— «Нашей фирмой выпускается „Суппергаммалонель“ всех цветов и всех существующих в природе оттенков. Тем самым фирма пытается разрешить большую гуманистическую проблему — цвет и настроение, цвет и жизненный тонус, цвет и работоспособность…»
— Ты способ употребления читай, — подсказал ей Аркашка и сам принялся читать: — «Подкраска наносится на влажные, чисто промытые волосы нанизанным на расческу кусочком ваты. Волосы красятся по частям, прядь за прядью, до полного их потемнения». Айда в прачечную. Там вода есть нагретая. Там и свитер скинешь, чтобы не замарать.
— Подкраска легко смывается, — сказала Ольга.
— Ничего. Я с Зоей Борисовной поговорю, она тебя навсегда перекрасит.
Ольга села, стиснула каменную скамейку пальцами.
— Навсегда? И тогда мне всю жизнь придется лгать?
Аркашка потянул ее за рукав.
— Брось. Чего ты задумываешься?..
Ольга вяло пошла за ним.
Воробьи бросили мух ловить, уселись на нижние ветки и нахохлились.
Из кустов вышел шут с балалайкой.
Трень-брень.
— Я пришел извиниться. Может быть, сегодня в театре присутствуют химики, парфюмеры и парикмахеры. Может быть, они скажут, что нет такой замечательной черной подкраски для волос, что покамест ее не придумали. Я напомню: история эта началась неизвестно когда и, наверно, не скоро закончится. Представьте, что действие моего рассказа происходит в том, будущем году, когда черная краска «Суппергаммалонель» уже изобретена и уже продается во всех киосках, как нынче продаются спички. Хотя мне очень желательно, чтобы такой рассказ в том, будущем году был невозможен. Надеюсь, благородные юные зрители, досточтимые пионеры, простят мне такое вольное передвижение во времени.
Шут ударил по струнам своей балалайки.
Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
Лицо вытянулось, как у груши.
«СУМАСШЕДШИЙ!
РЫЖИЙ!»
Запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка.
И до-о-о-олго
Хихикала чья-то голова,
Выдергиваясь из толпы, как старая редиска.[1]
Двор зашумел контрабасовым голосом. Из подворотни появилась старуха Маша.
— Милиция знает дело. Милиция уже по всему городу рыщет. Найдут. Тем более что она такая заметная. — Старуха Маша увидела на скамейке Аркашкину кепку. Взяла ее в руки и принялась по сторонам озираться.
Пошарила за кустами, обошла вокруг вазы, в вазу заглянула. Встала на скамейку, посмотрела на дерево — может быть, ее внук в ветках спрятался.
— Он же не воробей, — сказал ей шут с балалайкой.
— Воробей не воробей, а он еще шустрее воробья. У меня от него каждый день седых волос прибавляется. — Старуха слезла со скамейки, недовольно глянула на шута. — Опять со своей трынкалкой?
Шут струны погладил. Они тихонько запели.
— Брось свою трынкалку, — строго сказала старуха Маша. — Культурный человек с балалайкой ходить постесняется.
Шут поиграл немного «Наш паровоз летит вперед…».
— Тьфу на тебя. Была бы жива твоя мать, она бы глаза со слезами выплакала. Я тебя вырастила с Дашей и Клашей. А ты кем стал? Шутом, прости господи.