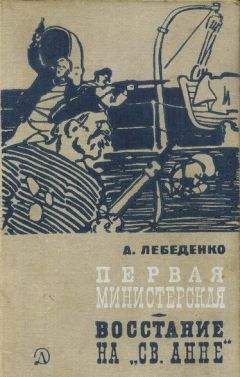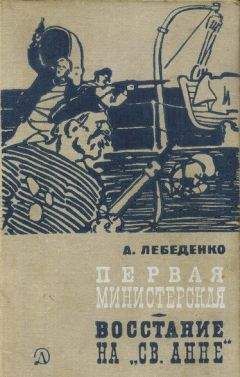История показывает нам, что на земле ничто не вечно, что власть, порядок, слава и сила каждой страны преходящи. Что для самого могущественного государства, как и для человека, есть утро, есть день, когда наступает расцвет народных сил, и есть вечер — закат и упадок. К счастью, мы живем в стране, которая еще переживает свое утро, которой еще предстоит вступить в период расцвета и настоящей культуры.
— Как? — не выдержал Матвеев, мечтавший на школьной скамье только о гусарском мундире и кавалерийских походах. — Разве сейчас наша страна не является самой сильной в мире? — Он встал, расправил плечи, сделал грудь колесом и откинул назад маленькую голову с рыжей шевелюрой. — Разве не находится Россия сейчас в расцвете могущества и славы?
Историк засунул средний палец в раструб воротника, оправил галстук и сказал со снисходительной улыбкой:
— Видите, молодой человек, военные победы — еще далеко не всё. К сожалению, мы не стоим в ряду культурнейших европейских народов. У нас, например, слабо развита промышленность. У нас много неграмотных. Мы не разработали еще, не освоили собственных природных богатств. Да мало ли еще что? Возьмите Англию. Ее внешнее могущество соединяется с высокой культурой, тогда как у нас… — Педагог развел руками.
— А русская литература? — закричал Рыбаков, один из лучших учеников в классе, писавший сочинения на пятерки.
— А наше искусство? — крикнул кто-то с задней парты.
— А музыка, театр?
Педагог поднял руку.
— Успокойтесь, успокойтесь, господа! Вы, по-видимому, неправильно меня поняли. Я сам являюсь российским патриотом и не собираюсь ронять в вашем представлении высокую честь быть русским. Но истинные патриоты смотрят правде в глаза.
— Правильно! — крикнул Ливанов.
— Так вот, — продолжал педагог, — мы и должны признать, что у нас, в нашей стране, далеко не все обстоит так, как нам бы хотелось.
— Каждый хочет по-своему! — крикнул Казацкий.
— Так, как хотят настоящие, а не квасные патриоты, — поправился педагог.
— А кто такие квасные патриоты? — наивно спросил Матвеев.
— Ты что, не знаешь, дурень? — вмешался Андрей. — Это те, что пьют квас, то есть такие же олухи, как ты.
— Господа, спокойствие! — сказал педагог. — Я очень рад, что вы с таким жаром обсуждаете вопросы любви к родине. Но я думаю, что не следует нам вносить в этот вопрос столько азарта. У нас будет время, и мы обсудим этот вопрос со всех сторон. Может быть, даже напишем сочинение на эту тему. Сейчас же я предлагаю приступить к работе. Я хочу только сказать, что для всякого мыслящего человека, сознательно относящегося к современным событиям, необходимо внимательное изучение истории. Только в истории можно найти объяснение тем роковым неудачам на Дальнем Востоке, которые принесли столько страданий нашей родине.
— Какие неудачи? — вскочил опять Матвеев. Лицо его стало медно-красным. — Никаких «роковых неудач» нет. Это все мелкие сражения! Русская армия сбросит японцев в море, и мы превратим Японию в русскую колонию.
— Сядь! — закричали Андрей, Ливанов и другие. — Заткни фонтан красноречия!
Педагогу вторично пришлось успокаивать класс.
Он стал теперь у окна, скрестив руки на груди, и речь его лилась свободно и увлекательно. Гимназисты забыли о вспыхнувшем было горячем споре и слушали непривычно живой рассказ педагога.
Когда раздался звонок, мальчики не вскочили со своих мест, как обычно, и в полной тишине дали педагогу закончить урок.
Но зато с его уходом поднялась буря. Матвеев вскочил на парту, застучал каблуком в верхнюю откидную доску и заорал:
— Рано радуетесь! Мы его живо сократим. Разговорился. Бердичевский соловей!
— И заметили? Все только про бунт, только про бунт! — закричал Казацкий.
— Эти фокусы мы знаем! — продолжал кричать Матвеев. — Вот пойдем к директору и обо всем доложим.
— А что ты, собственно, доложишь? — спросил, сдерживаясь, Андрей. — Что он сказал непозволительного? То, что он говорил, в газетах пишут.
— В жидовских газетах! — кричал Матвеев. — И потом, что можно в газетах, того нельзя в гимназии.
— Не всем известно, что ты не дорос еще до политических вопросов. Он, видимо, на тебя не рассчитывал.
— Ну вас к черту! — выругался Козявка. — Чего переполошились? Сколько таких на руку идет? — Он выставил вперед мясистую лапу.
Но спор не утих. Было известно, что в классе есть два лагеря, две враждующие стороны: патриоты и либералы, но до таких открытых столкновений никогда не доходило.
Когда гимназисты по звонку вывалили в коридор, к пятиклассникам группами подходили ученики старших классов. Они жадно расспрашивали о том, что говорил новый педагог, как он себя держал, ставил ли баллы и вообще что это за птица. Пятиклассники с преувеличенно серьезным видом пускались в длительные рассуждения по поводу первого урока нового историка.
— Послушай, Андрей, — спросил Котельников, — почему Матвееву так не понравился новый преподаватель?
— Патентованный тупица! Отец — бранд-майор, в Союзе русского народа [4]. А сын мечтает быть гусаром. Учится на одних колах. Зато марши всех кавалерийских полков дует наизусть. Формы всех полков за сто лет изучил на зубок. А больше ничем не интересуется.
— Курточка обтянутая, коротенькая, — перебил Ливанов, — штаны — диагональ на штрипках — вот-вот лопнут. А из карманчика — гроздь брелоков. Матвеев ходит, а брелоки звенят.
— Самый счастливый день в его жизни будет, когда он наденет погоны. Ну и, конечно, патриот умопомрачительный.
— Не один Матвеев придерживается таких взглядов, — раздался вдруг голос из дальнего угла класса. Это говорил невысокий, болезненного вида юноша, один из трех евреев, принятых в класс «по процентной норме».
— Наконец-то ты, Гайсинский, заговорил, — рассмеялся Андрей. — А ты больше все молчишь в кулачок.
— Речь — серебро, молчание — золото, — усмехнулся Гайсинский. — А в гимназии, пожалуй, даже не золото, а платина. А для евреев — бриллиант.
Нечего было возразить на это.
— У нас немало ребят, которые думают так, как Матвеев, — продолжал Гайсинский. — Например, Козявка, Казацкий, Кириченко… Или, например, Салтан. Впрочем, смеет ли исправничий сын иначе мыслить? А разве ваши классные либералы знают, чего они хотят? Они тоже не отдают себе хорошенько отчета в том, что делается.
— Ну, это ты зря, — обиделся Андрей. — Я каждый день читаю газеты. И притом не «Киевлянина», а «Киевскую мысль».
— Мало читать, нужно и думать…
— Ну, ты известный социал-демократ.
— Не надо об этом в классе! — испуганно вскинулся Гайсинский.
— А разве в классе нельзя говорить о политике? — спросил Котельников.
— О, святая наивность! — воскликнул Ливанов. — Если составить список вещей, о которых нельзя говорить в гимназии, то получится объемистая тетрадь.
— Преувеличиваешь, — сказал Василий.
— Преувеличиваю? Считай, — он стал откладывать на пальцах, — о политике нельзя, о революции нельзя, о любви нельзя, о том, что бога нет, нельзя, об украинской истории нельзя, о Шевченко нельзя, украинские песни петь — и то нельзя…
— Каждую перемену поем.
— На дворе, на улице… А ты попробуй спеть на гимназическом вечере. Кроме «Реве та стогне Днипр широкий», ничего нельзя. На рождественский вечер наш хор хотел подготовить две-три вещицы на украинском языке, так директор начисто запретил, и Хромому Бесу влетело.
— Пожалуй, ты прав, — усмехнулся Андрей. — Синодик этот можно и продолжить.
— Вот то-то ж и оно-то, — сказал Ливанов.
— Так почему же этот новый педагог… как его зовут?
— Игнатий Федорович.
— А фамилия?
— Смешная какая-то. Не то Корешок, не то Посошок, не то Пастушок.
— Марущук…
— Да, так почему же он так откровенно высказывается?
— А ты заметил, как он хвостом вилял. Я, мол, сам патриот. Но нужно, мол, правде в глаза смотреть.
— А все-таки я вам скажу, — решительно заявил Ливанов, — Игнатий Федорович молодец! Разумеется, он говорит не все, что думает. Видишь, и без того какая буча поднялась. Но зато он заставляет нас думать. Обмениваться мыслями. Мы бы сейчас играли в квасок или на деревья лазили в инспекторском саду. А теперь вот сидим и говорим о деле.
— А знаете, ребята, Гайсинский прав. Надо бы нам серьезно поработать. Собраться где-нибудь, поговорить. Слушай, социал-демократ, — обратился Андрей к Гайсинскому, — ты, наверное, знаешь, где собирается народ… Сделай так, чтобы мы могли принять участие…
— Кто таких мальчишек примет в серьезный кружок? — досадливо сморщился Гайсинский. — На другой день разболтаете и засыплете ребят. Или папашам и мамашам расскажете, или симпатиям. А если хоть одна симпатия знает, то весь город узнает.