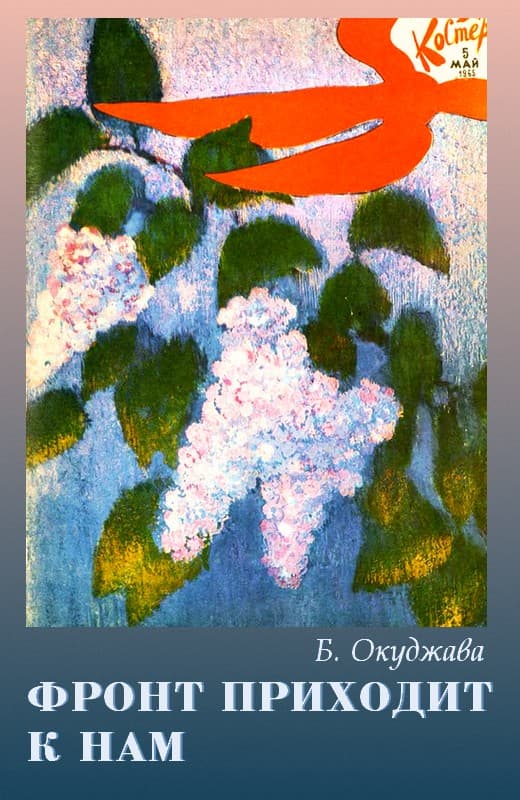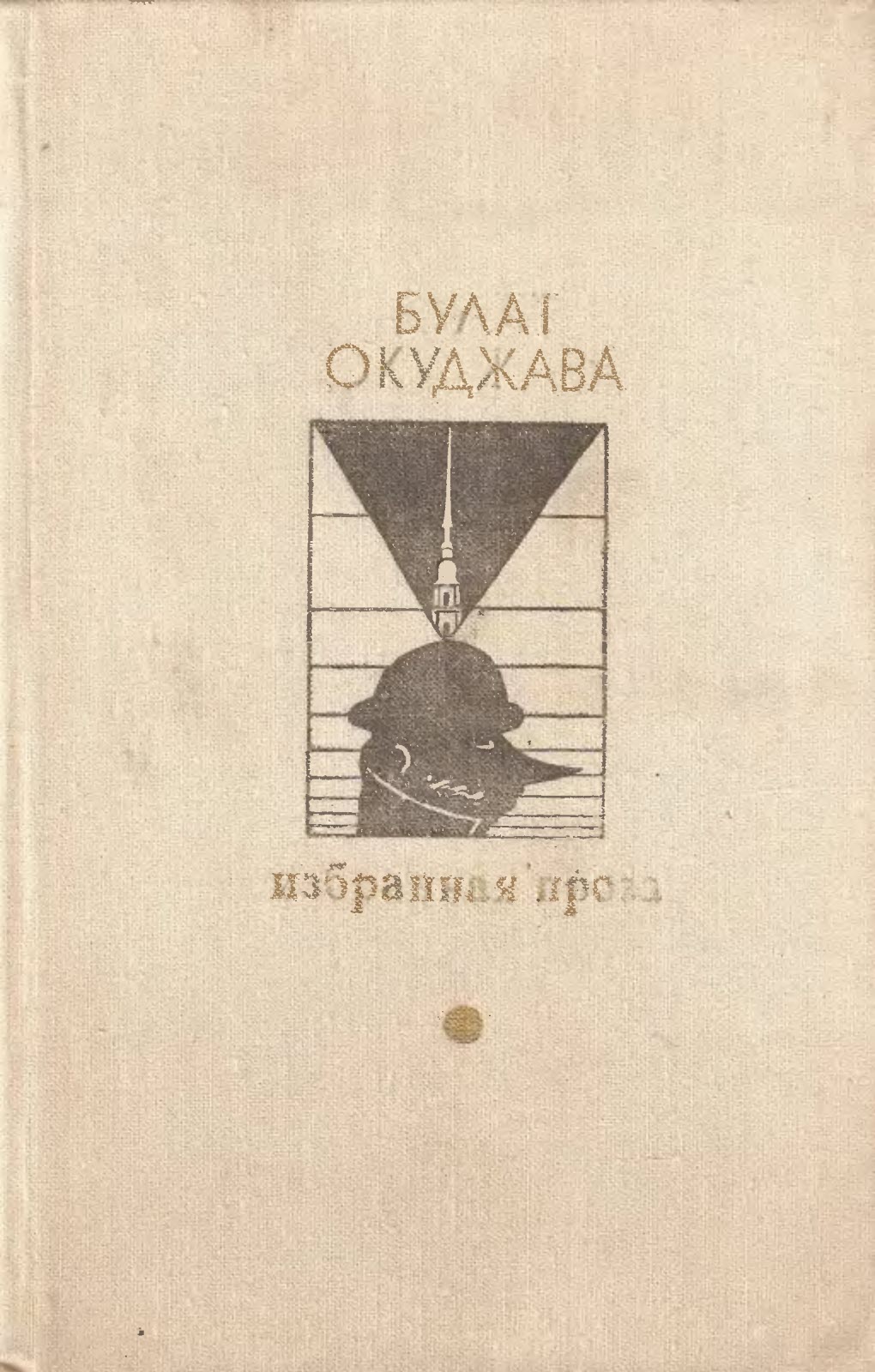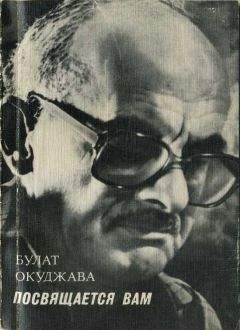ночью и ни днем.
— В погребе сухо, — сказал Женька. — И все ты выдумываешь.
А я промолчал. Я ему эти стихи и не показывал. Это он просто через мое плечо заглянул.
Вошел дядя Юра, сказал:
— Никуда не выходить. — И ушел.
А мы с Женькой переглянулись, погасили коптилку и полезли в дверь. На дворе никого не было.
— Лезем на чердак, — предложил Женька.
На чердаке душно. Пахнет пылью. Чердак большой и темный. Там всякие закоулки, столбы, балки и трудно сразу привыкнуть. Но мы торопимся к слуховому окну. Под нами — двор и разбитый забор. На улице тот же грузовик. И тот же шофер лежит возле. Неподвижно. И дядя Юра торопится к дому, увешанный узлами и стульями.
— Грабит, — шепчет Женька, — это называется мародерство.
А за дядей Юрой торопится с узлами Федор Тышкин. Фельдшер. Дурак ужасный.
В городе тихо-тихо. Никто не стреляет, не кричит. Только очень противно пахнет гарью. А шофер лежит.
А мы с Женькой смотрим из слухового окна на желтые листья. Они кувыркаются на ветру, как акробаты в цирке. И все через голову, через голову.
Летят себе листья, как в Москве осенью. Тишина, и небо голубое. И как будто никакой войны и нету. Но шофер лежит.
Женька сопит и роется в карманах.
— Хочешь, Женя, про Москву поговорим?
Но он не слышит. Он роется в карманах.
Потом достает бумажки — смятые, жалкие.
— Вот, — говорит он, — это наши удостоверения. А ты, товарищ подполковник, сидишь на чердаке и ни о чем не думаешь…
И он качает головой. Совсем как взрослый.
— А была бы граната хоть какая-нибудь, — говорит Женька, — мы бы с тобой, Гена, эту злую собаку Ю. А. Королькова грохнули бы за мародерство, а?
Я молчу.
— Давай думать, — бубнит Женька, — давай думать. А то скоро война кончится, а мы с тобой так и просидим на чердаке.
Мы садимся спинами друг к другу. Ветер гонит сухие листья. И вдруг мы слышим грустный, одинокий крик паровоза.
Паровозы очень жалобно кричат,
Убежать отсюда все они хотят,
Нам бы тоже вместе с ними убежать,
Партизанскую судьбу свою начать…
В городе тихо. Женька говорит:
— Наши ушли, Генка. Смотри, вот-вот фашисты появятся. Ворвутся на мотоциклах и давай расстреливать, и давай, и давай…
Я молчу. Страшно. Женька выглядывает в слуховое окно.
— Пока никого не видно. Пусто.
Мы спускаемся в дом. Мне все время кажется, что кто-то стоит за моей спиной. Дядя Юра в новом костюме стоит у окна, тетя Аня в новом платье — у другого. Они смотрят на улицу. На столе лежит румяный каравай, на нем — солонка с солью. Я глотаю слюни. Мы стоим с Женькой на пороге и боимся сделать шаг. Хоть бы кто-нибудь крикнул или топнул бы. Дали бы нам с Женькой по большому куску от этого каравая. А еще бы хорошо с колбасой.
Женька тихонечко поворачивается. Я — за ним. Мы идем в кухню. Мы молча едим все, что нам попадается: корки какие-то, капустные листья и остатки пшенной каши. Капустные листья с солью — это здорово. Кончится война, возьму целый кочан, пачку соли, сяду где-нибудь в удобном месте и все съем. Медленно буду есть. Долго.
— Ты боишься? — спрашивает Женька.
— Нет, — говорю я, — совсем мне и не страшно.
Это я его подбодрить хочу.
— А мне страшно, — говорит он, — как поймают, как головой об столб дадут…
Вот и вечер наступил. И опять эта тишина. Мы снова заглядываем в комнату. Там никаких изменений.
— Может, они умерли? — спрашиваю я.
Женька манит меня за собой. Мы выходим на крыльцо. Дождичек идет, а на скамеечке прямо под дождичком, в зимней шапке, в начищенных сапогах, сидит Тышкин и молчит, и тоже смотрит куда-то далеко, и чуть голову наклонил, словно прислушивается.
— Товарищ Тышкин, — спрашивает Женька, — вы что это в зимнее нарядились?
— Гусь свинье не товарищ, — не оборачиваясь, отвечает Тышкин. А лицо у него важное-важное.
— Ах, извините, — говорит Женька, — а вы за красных или за белых?
— А мне все равно, — говорит Тышкин, — мне хоть синие.
Он встает и начинает ходить по двору, а Женька говорит:
— Слушай, Генка, я придумал такую штуку, что немцы не рады будут, что в Январск сунулись. Мы их всех, и злую собаку Королькова, и Тышкина, — в дохлятину превратим. Мы с тобой. Гена, пустяками занимались, в маршалы играли, мину дурацкую делали. Ты ведь знал, что она не взорвется, ведь знал? Что ж не говорил ничего?
— Я думал, взорвется… — говорю я.
Женька смотрит на меня с презрением.
Тышкнн ходит и ходит.
Женька шепчет:
— Возьмем веревку, сделаем петлю, намылим и вечером у дверей повесим, и порог намылим. Злая собака приходит — и головой в петлю. Хочет подняться, а под ногами скользко. А Федьку Тышкина немцы расстреляют: подумают, что он виноват. А потом разберутся, в чем дело, и начнут друг в друга стрелять.
Я вспоминаю его слова: «Что ж не говорил, что мина не взорвется?»
— Ничего не получится. Женя. Смешно даже, чтобы взрослый человек сам себя повесил…
— Ах, смешно?!
У него злые глаза.
— Ты только и умеешь стишки писать! Пиши, пиши!
С Женькой спорить нельзя. А может быть, он и прав.
— Товарищ Тышкнн, — спрашивает Женька, — что лучше — осень или лето?
— А мне все равно, — бормочет Тышкин, а сам все прислушивается, даже ногу отставляет в сторону, как гончая собака.
В Январске тишина. А мы сидим с Женькой за сараем и намыливаем петлю.
— Вот уж петелька, ну и петелька, — шепчет Женька, — головой попадешь — не воротишься.
— Женька, — говорю я, — а вдруг он и в самом деле удавится? Ведь страшно, а?
— Страшно, — говорит Женька. — А мы смотреть не будем, мы на станцию убежим.
Уже совсем ночь.
Я смотрю на белую рубаху Тышкина и придумываю такие стихи:
Ходит Тышкин вдоль забора, сторожит.
Сторожит он, сторожит он и дрожит.
А вокруг его башки петля кружит.
Женьке очень нравятся эти стихи. Он даже последнюю строчку придумывает:
— А было бы побольше веревки, мы бы для каждого фашиста сделали бы по петле. А злая собака Корольков все равно попадется.
Глава седьмая
о том, как все это закончилось
Всю ночь была тишина. Мы с Женькой сидели, сидели. Все сторожили, не заметили и