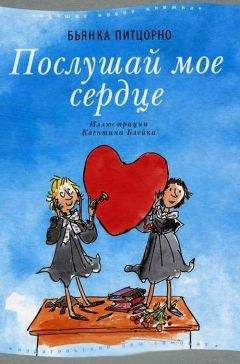жизни ей не было так одиноко. Она стала пленницей тайны, которой ни с кем не могла поделиться.
Глава восьмая
Ирен, конечно же, заметила её мучения, но посчитала, что они вызваны мыслями о смерти Франческо Дзайаса. Что говорить, ведь даже она сама, знавшая Франческо гораздо меньше, была потрясена. Ей то и дело приходили на ум реплики Альберто Лимонты, но теперь даже эти самые обычные слова казались предвестниками несчастья, и она непрерывно донимала Лалагу вопросами, не осознавая, что сыплет соль на куда более глубокую и болезненную рану:
– Как ты думаешь, он знал, что так серьёзно болен? Как считаешь, он ждал смерти или она застигла его врасплох, как и всех нас? – точно так же в период «усыновления» Пиладе и Анджелины они много раз спрашивали друг друга:
– Как бы ты хотела умереть: внезапно или имея возможность подготовиться?
У Аузилии и Лугии никаких сомнений по этому поводу не было: сколько Лалага себя помнила, обе служанки каждую первую пятницу месяца ходили исповедаться и причаститься, умоляя («умолять» в их понимании означало «требовать с особой настойчивостью и решимостью») о милости умереть не внезапно, во сне или ещё как-то, а зная о дне смерти заранее, чтобы успеть покаяться и посвятить свою душу Богу.
Доктор Пау же, напротив, говорил о пациентах, скончавшихся внезапно:
– Повезло, даже не успел ничего заметить.
В поддержку Аузилии и Лугии высказывалась и Баинджа: она рассказывала о Святой Урсуле, которая по ночам возглавляет процессию дев с фонарями и стучится в двери истинно верующих, чтобы предупредить их о том, что в течение трёх дней те умрут. И ещё о призрачной лошади, которая три ночи подряд скачет вокруг дома, где живёт обречённый на смерть: сама она незрима, но стук копыт раздаётся так громко, что уснуть невозможно.
– Я вот, если бы услышала стук копыт невидимой призрачной лошади, тут же умерла бы от страха, – шептала Лалага Ирен. Но до сих пор их рассуждения были чисто теоретическими, потому что смерть никогда не забирала никого из их знакомых.
Теперь всё стало иначе. Теперь они постоянно думали, не могли не думать о том, что тело Франческо, которого они всего пару дней назад видели живым, горячих рук которого касались, того самого Франческо, который каждый вечер выходил на сцену в новом облике, выдумывая всё новые трюки, – это тело насильственно отделено от души, заперто в гроб, засыпано землёй и, наверное, уже разлагается, как перезрелый фрукт.
– «Душа Франческо отлетела». Но куда? Неужели на Земле не осталось даже самой маленькой её частицы? – спрашивала подругу Ирен.
Дон Джулио отслужил мессу за упокой души «нашего бедного брата, столь внезапно и столь преждевременно выхваченного из этой юдоли слез». Он высоко оценил великодушие и щедрость Церкви, её способность к изменениям. Вот раньше, например, театральных актёров не хоронили в освящённой земле: их могилы должны были оставаться за оградой кладбища. Теперь, с появлением кино и телевидения, жизнь изменилвсь: кто станет отрицать святость Паблито Кальво, маленького актёра из «Марселино Хлеб-и-вино», или Инес Орсини, которая, даже не будучи профессиональной актрисой, так чудесно сыграла роль Марии Горетти в «Небе над болотами» Аугусто Дженины? И сам он обязательно помолится за душу Франческо Дзайаса на тот случай, если (что весьма вероятно) ей понадобится поддержка, чтобы покинуть чистилище и отправиться в рай.
Ирен предложила Лалаге потратить все чаевые, чтобы зажечь как можно больше свечей перед статуей мёртвого Христа. Каждая свеча избавляла от десяти лет загробных мук, а если Франческо это не понадобится, скидка автоматически перенесётся на какую-нибудь другую случайно выбранную душу.
Но, конечно, свечи ему понадобятся, думала Лалага. Даже если во всем остальном ты святой, нельзя целовать Тильду, зная, что у тебя заразная болезнь.
И теперь подруги стояли под сумрачными сводами опустевшей церкви перед длинным рядом свечей и шёпотом читали поминальную молитву, «Requiem æternam dona eis Domine» [13].
Но про себя Лалага молилась о другом: «Господи, сделай так, чтобы Тильда не заразилась туберкулёзом. А если бациллы Коха уже начали прогрызать в её лёгких эти убийственные каверны, останови их, заставь их умереть. Если лекарства могут уничтожить микробов, почему Ты не можешь сделать это своей волей? Или Ты хочешь, чтобы я считала Тебя слабее пенициллина? Послушай, Боже, я знаю, что Тильда – великая грешница: она не слушалась старших, она наплела целую гору лжи, целовалась с мужчиной... Но если Ты хочешь, чтобы она заболела в наказание за свои грехи... Какой же пример Ты тогда подашь верующим в Тебя, которых всегда убеждал: «Прощайте, прощайте, прощайте...»? Не могу поверить, что Ты такой мстительный.
Слушай, если Ты и правда хочешь компенсации, можем заключить сделку: я сама заплачу за грехи Тильды. Можешь, к примеру, заставить моё лицо покрываться прыщами каждые выходные. И ещё могу пообещать, что в жизни не съем больше ни ложечки шоколадной пасты «Джандуйя» и ни единой карамельки «Розанна», которые люблю больше всего на свете. Хочешь, буду носить власяницу? Не знаю, как именно она выглядит, но я спрошу у матушки Эфизии. Буду подниматься каждую ночь и молиться, стоя на коленях на полу, даже зимой, хотя по ночам все радиаторы в интернате выключают. Стоп, Боже, а как же я