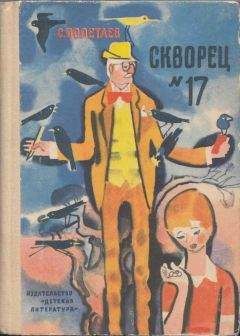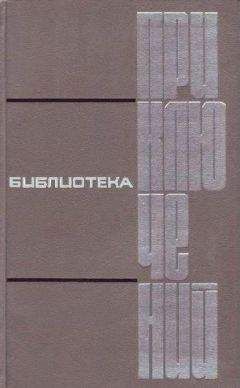— Орко, Орко! — кричал Хазбулат.
— А ну замолчи! — сказал Кунай. — Ты его испугаешь.
Элька кусала его сзади, но спереди звал его знакомый голос Хазбулата, и Орко стоял, застыв как валун, не в силах сдвинуться с места. Потом свет резанул ему в глаза, он замотал головой и отступил назад, толкнув Эльку, которая тоже попала в свет и затихла, вся дрожа.
— Да это же Орко! — крикнул Хазбулат.
— Посмотри получше, может, это вовсе не он. А что там ещё за ишак стоит?
— Орко, Орко! Вот и кожаный ошейник на нём! Он вернулся, сам вернулся!..
Что творилось с мальчиком! Он прыгал вокруг осла, хотел тут же взобраться на него, и Орко дрожал, чувствуя на своей морде знакомое дыхание, а на гриве цепкие руки. Но тут он увидел старого хозяина — тот шёл на него медленными осторожными шагами, держа лампу в одной руке. Он поставил лампу на землю и пошёл, расставив руки и глядя исподлобья сверкающими, как угли, глазами. Элька отступила в темноту. Орко потупился, и ласки мальчика не успокаивали его, потому что в закоулках памяти проступали страшные глаза и острые, скошенные книзу усы старого хозяина. Сейчас Кунай широко, ласково улыбался, только походка была вкрадчивая, но всё равно — перед улыбкой его, виноватой и заискивающей, он чувствовал, как слабеет, гаснет его страх. «Всё будет хорошо, кто старое помянет, тому глаз вон, не пугайся, мы же друзья», — говорили глаза Куная, а сам он подкрадывался, держа руки растопыренными, чтобы схватить. Ах, как он был жалок, старый хозяин, который так бессердечно волочил его тогда, так грубо сорвал с него уздечку, так злобно задрал ему копыто, чтобы сорвать подкову, так оскорбительны были все его действия тогда. Но, видно, что-то изменилось, если он так улыбался ему, так просительно смотрел на него. Нет, Орко не стал бы покорно ждать, пока взнуздают, он был ожесточён, дик сейчас и хитёр, но к Хазбулату он был полон доверия и поэтому не уходил…
— Я возьму Орко, а ты бери того ишака, — сказал Кунай. — Придержи его и не отпускай…
Старый хозяин чувствовал, что Орко боится его, но доверие к мальчику оказалось сильнее — Орко стоял на месте, Кунай схватил его за уши и похлопал по шее, и что-то давнее, когда он был совсем ещё маленьким, проснулось в Орко, и он успокоился. А Хазбулату не пришлось ловить Эльку — она покорно потянулась к Орко, и так они сперва Орко, потом Элька — прошли через калитку во двор. Хозяин запер калитку на засов и лампой осветил Эльку.
— Э, пожалуй, зря мы затащили этого осла, только овёс тратить на него. — Он стал открывать калитку, чтобы вытолкать Эльку, но тут воспротивился Хазбулат:
— Они же вместе пришли, пускай вместе останутся…
— Зачем нам два осла? Не нужен нам чужой, нам Орко хватит.
— Эке[1], зачем ты так? — в голосе Хазбулата послышались слёзы. — Ведь они друзья…
— Э, друзья, — усмехнулся Кунай. Мольбы мальчика только придали ему решимости. — Буду я на них двоих тратиться!
Он открыл калитку, чтобы выгнать Эльку, но Хазбулат вцепился в Эльку.
— Так это же Элька! — закричал он. — Это же ослик Мустафы. Орко сам пришёл и Эльку привёл! Вот Мустафа будет рад! Эке, ну зачем гнать его на ночь? Сейчас куда она пойдёт? Утром я отведу её…
— Ну до утра пусть побудет здесь, — сдался Кунай. — Только сразу же отведёшь, а то как бы Мустафа не подумал, что я его ишака хотел себе оставить. Зачем нам два? Нам хватит одного.
Хазбулат насыпал в тазик овса, и Орко и Элька дружно тянулись головами в таз, и старый хозяин смотрел и дёргал усами, скошенными книзу.
Тут вышла мать на крыльцо, зябко кутаясь в пуховый платок.
— Ай-яй, — удивился Кунай. — Кто распустил этот поганый слух? И я поверил, как старая баба. Ай, яй-яй, стыд на мою голову! Ну хорошо, что хоть Орко не подвёл. А я себе думаю: где я буду искать своего Орко? Он же за всё время ни разу не объявился поблизости. Думаю, нет, не придёт. Где я его буду искать? Я уж всех шофёров просил, как только увидят ишака с кожаным ошейником, чтоб привезли, обещал даже три рубля. Ну а он сам пришёл, не пришлось тратиться. И хорошо, что я сдержался и не купил себе другого — мне на базаре уже предлагали осла, да мы не сошлись в цене. Спасибо, сам пришёл…
Хозяин был доволен. Он побежал в дом, вынес уздечку и пристегнул её к кожаному ошейнику. И погладил ошейник, хороший добрый кожаный ошейник, словно это был документ, что-то вроде паспорта, выданного ослу в знак человеческого к нему доверия за преданность и любовь.
— А ну-ка, дай я посмотрю, цела ли ещё подкова… Хазбулат, а ну посвети мне!
Он задрал ногу осла и рассмотрел подкову.
— Сильно стёрлась, но ещё послужит.
Кунай крепко привязал осла к ограде, Эльку он не стал привязывать и пошёл домой.
Ночь была ещё длинная впереди. О чём думал Орко? Может, о том, что он мог бы и дальше жить на воле, без людей, хотя бы и в вечных опасностях? Он мог бы, конечно, и дальше жить без людей, но вот люди почему-то не могли жить без них, без ослов. Может, он жалел людей и потому терпимо относился к их глупостям. Кто знает, о чём думал старый осёл, чувствуя на своей шее тёплое дыхание Эльки. Он был мудр и в мудрости своей умел одолевать обиды на людей…
Проходя вечером по кладбищу, Ефим Савельич Истратов услышал треск. Он огляделся, но ничего особенного не заметил. Обычная картина: осыпавшиеся могилы, деревянные кресты с выцветшими на них рушниками, старые берёзы и липы. Истратов пошёл дальше. Снова послышался треск. Тогда он поднял голову и в густой листве берёзы увидел чьи-то босые ноги. Держась за ветку, мальчишка застыл с раскрытой пятернёй, а над ним, трепыхаясь в воздухе, кричал скворец. Рассмотреть, кто это озорует, Истратов не успел. Мальчишка заметил его, скатился вниз, скрюченная фигурка его нырнула в гущу деревьев и скрылась.
Истратов подошёл к дереву и увидел в траве взъерошенного скворца. Глаза скворца воинственно сверкали, он силился подняться, но только беспомощно вертелся, отталкиваясь своим острым чёрным крылом. В руках Истратова, спокойных и тёплых, скворец угомонился, и глаза его устало закрылись.
— Э, братец, да у тебя лапка сломана.
Истратов присел на скамеечку возле могильной ограды, извлёк очки из кармана, надел их и стал рассматривать сломанную лапку.
— Никак колечко?
Истратов попытался прочесть буковки, но было уже темно — не разобрать. Тогда он встал и пошёл с кладбища, держа перед собой находку, словно блюдце с водой.
На следующий день, придя в школу, Павлик столкнулся у входа с дружком своим Васькой, с которым сидел на одной парте. Тот явно поджидал его.
— Ничего не слыхал? — спросил Васька.
— А что?
— К нам из Австралии скворец прилетел. С колечком!
— Врёшь!
Павлик прижал Ваську и задышал в лицо.
— Сам видел?
Васька выпучил глаза, набрал воздух в грудь — очень хотелось похвастать, что видел, но не решился.
— Отпусти сперва.
Павлик отпустил.
— Ефим Савельич Маргарите Ивановне сказал, я за дверью стоял и слыхал: интересный, говорит, случай — из Австралии прилетел скворец.
— А почём он знает, что из Австралии?
— А кольцо у него на лапке, там всё написано…
— Трепло ты! — Павлик с презрением отвернулся от приятеля. Он отошёл было, но снова приблизился к Ваське и с равнодушным видом сказал: — Ты вот что, помалкивай лучше. Раззвонишь — смеху не оберёшься.
Васька растерянно хлопал глазами.
— Чего помалкивать-то?
Глаза у Павлика недобро сощурились. Васька замолк — Павлик был скор на расправу и драться горазд.
После уроков Павлик домой не пошёл. Классы давно опустели. Он стоял перед стенгазетой, делая вид, что читает, а сам постреливал глазами в сторону учительской, где ещё сидели учителя и Ефим Савельич Истратов — директор школы, преподававший математику и физику. Раз-другой Павлик прошёлся мимо учительской, заглядывая в открытую дверь, а когда Истратов наконец собрался уходить, юркнул в класс, потом незаметно выскочил вслед и долго шёл сзади, не решаясь подойти.
И пока шёл, всё думал: видел учитель или нет, как он пытался достать скворца из дуплянки. Наверно, видел — от него разве упрячешься. И сам себя оправдывал: он бы не трогал скворца, если бы тот не стал нападать, норовя попасть острым клювом в глаза. Пришлось в порядке самозащиты помять его слегка. Павлик глядел учителю в спину и думал: а ну вдруг сейчас Ефим Савельич обернётся и скажет: дескать, что ты идёшь за мной? Загубил скворца, а сейчас чего тебе надо? Шёл за ним и не знал, как оправдаться. Разорял он гнёзда, собирал яички, выдувал жидкость и хранил их в ящике на чердаке — ни у кого такой коллекции не было, а сам никогда не задумывался: зачем она ему, собственно? А вдруг учитель спросит: да, зачем она тебе? Что сказать? Может, сбрехать: для науки, дескать? А почему тогда прячешься как вор? И биологичке не покажешь?