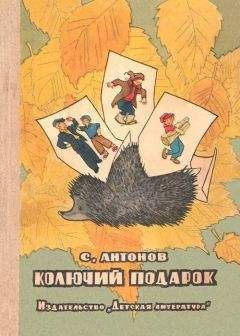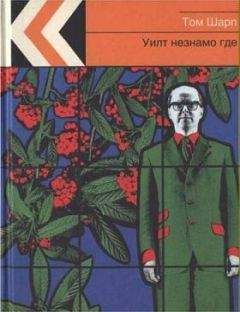— Почему с вами? Он наш сосед!
Виктор начал колебаться: «Может, в самом деле сыграть? Тем более, просят…»
Через несколько минут на площадке опять слышались топот, оживлённый смех и ещё более громкие крики. Виктор Алексеич, знатный рабочий, портрет которого висит в заводской аллее, превратился сейчас в Витьку.
— Витька! Витька! — кричали ему, предупреждая об опасности быть «засеченным» мячиком. — Витька!.. Витька, быстрей!
Он бегал, и оживлённые крики ребят заставляли его быть ещё более ловким, бегать ещё быстрее. До берёзы он мячика добить не смог, но когда ударил первый раз, всем показалось, что ударил он ловчее и сильнее всех и что мячик полетел дальше обычного.
Разгорячённый игрой, с разгоревшимися глазами, с лицом, залитым румянцем, он ни минуты не стоял на месте.
Вдруг ему показалось, что кто-то окликнул его. Как это было несвоевременно и некстати! Он добежал до «поля», обернулся и увидел свою мать.
Она шла к нему. «За чепухой не пойдёт…» У матери, кроме него, был маленький сынишка Митя.
Виктор ещё порывисто и горячо дышал. Одной рукой он застёгивал ворот рубахи, другой поднимал с земли свой чёрный пиджак.
Он неторопливо оделся и пошёл навстречу матери. Игра приостановилась, и несколько десятков глаз следили за матерью и сыном.
— Ну что ты, мама? — спросил Виктор.
— Витенька, — сказала она, — комендант пришёл, о печке спрашивает.
— Ну что печка-то? Пусть ремонтируют. — Он ответил и посмотрел по сторонам, где стояли ребята.
Некоторые, гордясь товарищем, улыбались: «Что ему комендант с печкой? Захочет — и не такое дело уладит!»
— Боюсь, не затянули бы, — говорила мать. — Затянут недели на две — в глине, песке погрязнем. Вот он и говорит, комендант: пусть, мол, он, сын ваш, на заводе Кротову скажет насчёт сроков — тогда быстрее сделают.
— Хм… Кротову, говорит? Ну пойдём.
— Вот за тем и пришла, Витенька. Чтобы не затянули нам ремонт надолго…
— Ничего, мама, ничего. Всё устроим…
Мать шагала рядом с сыном; рука её лежала на плече его, и чем ближе они подходил к дому, тем энергичнее становилась походка сына, тем ласковее трогала женщина худенькое мальчишеское плечо.
Был у нас учитель Николай Иванович. С бородкой и в круглых очках. Сам длинный и худой. Ходил всегда в чёрном пиджаке, и никогда на этом пиджаке ни пылинки, ни нитки белой, как у других.
Занимался он с первым классом. Шёл урок письма. Все склонились над партами и от усердия, казалось, даже замерли, дышать перестали.
Только Ваня Мельников то и дело тёр резинкой бумагу, что-то ворчал про себя, громко дышал.
Вот он обмакнул перо в чернилку, только поднёс к тетради, капля — хлоп! — и на строчки. Клякса! Промакнул её, написал полслова — плохо получилось, да и последнюю букву размазал. Ваня как выдернет перо из ручки и швырнёт на пол…
Все посмотрели на Ваню, писать перестали.
Николай Иванович, ничего не сказав, спокойно нагнулся, поднял перо, вытер его бумажкой и посмотрел перо на просвет: «Как будто ничего перо».
Потом он вставил его в свою ручку и подошёл к Ване.
А у того в тетрадке кляксы да подтирки. Слова — и вкривь и вкось. Буквы и маленькие и большие.
Николай Иванович заглянул в тетрадь. Смотрел, смотрел и хотел что-то сказать.
— Так перо плохое! — проговорил Ваня, оправдываясь.
Николай Иванович ничего не ответил. И, пользуясь молчанием, Ваня сказал:
— Царапает и вообще плохое…
Николай Иванович опять промолчал.
Он обмакнул ручку, в которой было вставлено перо, брошенное Ваней, и подсел к нему.
Он исправил Ване каждую букву, а внизу красивым ровным почерком написал:
«Перо плохое. Вот видите, как оно пишет».
С тех пор никто в классе Николая Ивановича никогда не жаловался ни на перья, ни на чернила, ни на ручки, никто не сваливал вину на безответные вещи, на товарища, который слабее тебя.
А пером тем Николай Иванович писал красиво и долго — чуть не с полгода.
В одно из воскресений доктор Борщов решил осуществить давно задуманное. Рано утром он зашёл за агрономом, тремя учителями, заведующим почтой и вместе с ними, достав подводу, отправился в лес. Оттуда они вернулись с телегой, нагруженной молодыми липами и клёнами.
Липы и клёны стали сажать на главной улице села. К доктору и его товарищам присоединились другие, и улицу озеленили в какие-нибудь три часа.
Во время работы и возник этот разговор.
— На земле всё меньше становится невозможного и необъяснимого, — говорил доктор. — Видите ли, наше село сорок лет назад было таким, каким оно, видите ли, изображено у меня на рисунке. Десять домов да кабак. А теперь? Красота! А всё вокруг?
Вспоминали про радио, телевидение, про Мичурина, Циолковского с его проектами полёта в межпланетное пространство, про атомную энергию, которую можно заставить служить делу созидания, про многое другое. Григорий Иванович, старый садовод, слушал, улыбался про себя и молчал.
— Вот сейчас кончим, — сказал он доктору и учителю, — милости прошу ко мне отобедать.
— Охотно, — отозвался доктор. — У вас, видите ли, вкусным компотом потчуют. Охотно приду.
Гости пришли.
На столе у Григория Ивановича стояла самая обыкновенная литровая бутылка, и в ней, чуть не касаясь стенок, лежало на дне спелое с красными продольными полосками яблоко боровинка.
Бутылку взял в руки доктор Борщов.
— Гм… — сказал он.
Стремясь найти разгадку, доктор вертел бутылку перед самыми очками. Он осмотрел полоски на стекле и сказал:
— Видите ли… Искусство литья… Донышко было отрезано, в бутыль положено яблоко и обратно спаяно. Мне на заводе в Людинове делали, видите ли, цветы в стекле. Изумительно! Великие мастера.
— Я не был на стекольном заводе, — улыбаясь, ответил Григорий Иванович.
— Дорогой мой, — сказал Борщов. — Я вижу в бутылке яблоко и вполне удовлетворительно объясняю это явление. Там же, в Людинове, мне впаяли в кусок стекла фотографию моей жены. И представьте — ни одной царапинки, не говорю — шва.
— Нет, — сказал Григорий Иванович, — я не ездил в Людиново. И, думаю, нельзя запаять стекло так, чтобы не было видно шва. А если можно, то при сваривании донышка стекло должно раскалиться, и яблоко будет повреждено.
— Оно искусственное, — сказал учитель Ефим Егорович, мастер делать чучела, маски для спектаклей. — Бутылку вы не трогали, ничего не отбивали, ничего не сваривали, а впихнули внутрь что-то вроде резины, натурально раскрашенной, и там надули.
— Эх, — вздохнул Григорий Иванович, — если бы я мог создавать яблоки, которые трудно отличить от натуральных! Посмотрите, — он указал на боровинку в бутылке, — там даже матовый покров виден.
Действительно, боровинка была покрыта нежной пыльцой, делающей яблоко матовым. Трудно было поверить, что оно искусственное.
— В природе, видите ли, нет загадок, которые нельзя было бы разгадать. Завтра я принесу лупу и найду, видите ли, загвоздку.
— Пожалуйста, — сказал старый садовод. — Но думаю, что не найдёте. Всё гораздо проще.
Были сделаны ещё кое-какие предположения, но тщетно! Загадка казалась неразрешимой.
Потом подали обед, затеяли разговор о литературе. О бутылке с яблоком забыли. После обеда Григорий Иванович водил гостей по саду, рассказывал им о сортах фруктовых деревьев, белых сливах, вымерзших в прошлом году. К вечеру гости разошлись.
Поздно вечером, когда все уже спали и только Григорий Иванович читал, в дверь постучали. Пошли открывать. Это был доктор Борщов.
— Извините, дорогой мой… Умоляю меня извинить… Завтра большой приём, несколько операций, а я, видите ли, спать не могу. Мучаюсь.
— Что-нибудь… плохое? — спросил Григорий Иванович. — Какой-нибудь случай?..
Григорий Иванович и домашние знали, что доктор тяжело переживал всякую неудачную операцию, ухудшение состояния больного, не говоря уже о смерти пациента.
— Яблоко! Яблоко, видите ли, в бутылке! — воскликнул доктор. — Я не могу, видите ли, спокойно работать, если меня что-то мучает. А меня мучает собственная тупость. Я не могу, когда что-то неясно. А у меня завтра тяжелейшие операции, видите ли… А тут ещё агроном Неустроев заболел.
— Из Грибовки?
— Да. Василий Васильевич.
— Сядьте, доктор, — сказал Григорий Иванович, кутаясь в одеяло. — Когда яблочко совсем маленькое, на него надевают бутыль. Бутыль прикрепляют к сучьям. И яблоко растёт в бутыли. Всё очень просто.
— Чёрт возьми! — выругался доктор. — Как я не догадался! Какая, видите ли, тупость!
Он двинулся к двери, что-то бормоча себе под нос, и можно было разобрать только: «Видите ли».