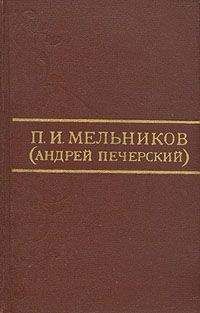Мы шли из одного лязгающего железом тамбура в другой. Машинист не рассчитал времени. Паровоз снова пыхтел изо всех сил. Вагоны озабоченно цокали на стыках и покачивались. Хватаясь на ходу за что попало, мы с Игнатом добрались, наконец, до своего вагона. Ребята уже собрали в кучу вещи, нацепили рюкзаки. Они поглядывали на нас и молчали. Мы тоже молчали.
Я сказал Муслиме, чтобы ребята никуда не ходили и ждали меня, а сам отправился разыскивать Игната. В нашем вагоне его и в самом деле не было. Уборные были уже закрыты, а на запыленных подножках гулял только ветер… Молодой усатый проводник, который собирал в тамбуре окурки в совок, оказался нервным и вспыльчивым. Он даже не выслушал меня как следует и сразу начал кипятиться и кричать:
— Какой мальчишка? Зачем мальчишка? Зачем туда-сюда ходишь? Зачем куришь? Садись на место!
Я вежливо обошел сердитого проводника и отправился по составу. Не мог же он, этот Игнат, выпрыгнуть на ходу!
Игната я нашел в самом последнем вагоне. Положив щеку на ладонь, он задумчиво смотрел за окно. Возле ног Игната белел полотняный, по-хозяйски уложенный мешок и лежала суковатая палка из молодого ореха. Наверно, от собак.
Я сделал вид, будто не заметил мешка Игната и вообще даже не догадывался, что он навострил лыжи.
— Ах, ты здесь! — сказал я. — Пойдем скорее. Сейчас Орджоникидзеабад.
Игнат молчал.
— Чего же ты сидишь?
В ответ опять ни слова.
— Не понимаю я тебя, Игнат. Сказал — поеду. А сейчас снова в кусты смотришь.
— Я, Александр Иванович, в кусты не смотрю. Я вам все рассказывал.
— Но ты же согласился ехать?
— Это мать за меня согласилась. Вы сами знаете…
Издали загудел наш паровоз. Гулкое эхо побежало по железным крышам, спрыгнуло с вагона и умчалось в горы. Поезд замедлял ход. Раздумывать было некогда.
— Ну, что ж, Игнат, — сказал я. — Дело твое. Не хочешь быть с нами, езжай сам. Мы тебя не держим. Только давай все честно и открыто. Пошли к ребятам.
Поднял ли Игната с места гудок, который сообщал о конце пути и звал всех к порядку, или мои слова — не знаю. Игнат встал, молча бросил на плечо свой мешок и пошел к двери.
Мы шли из одного лязгающего железом тамбура в другой. Машинист не рассчитал времени. Паровоз снова пыхтел изо всех сил. Вагоны озабоченно цокали на стыках и покачивались. Хватаясь на ходу за что попало, мы с Игнатом добрались, наконец, до своего вагона. Ребята уже собрали в кучу вещи, нацепили рюкзаки. Они поглядывали на нас и молчали. Мы тоже молчали.
Мы сидим в летней чайхане и ждем машину. Чайхана у таджиков что-то вроде делового центра. Тут нанимают бродячих штукатуров, «обмывают» покупки, обедают, спят, пишут стихи. Все, что делают в чайхане, перечислить трудно. Но больше всего тут ждут. С утра до вечера люди томятся возле своих узлов и караулят попутную машину.
Едва на улице запылит грузовик, за ним устремляется шумная бестолковая толпа пассажиров. Одни бегут рядом с кабиной, что-то кричат шоферу и размахивают руками, другие действуют более решительно. Они с ходу бросают за борт свои мешки, а потом, изловчившись, прыгают туда сами.
Но шофер вытряхивает непрошеных пассажиров, а сам поворачивает куда-то в проулок и скрывается в тучах пыли. Это городская машина. Она поехала за известкой или углем.
Я тоже несколько раз бегал за машинами. Нам ехать в сторону Нурека — туда, где среди скал строится огромная ГЭС. Шоферы нас не берут. Даже те, с которыми нам по пути. Они боятся растерять нас по дороге. Это может случиться. Кузова машин завалены досками, гремящими, как танки, рельсами, мотками проволоки. На некоторых машинах развеваются красные флажки. К этим машинам нас вообще не подпускают. Шоферы везут аммонал — взрывать скалы.
Я устал от бесполезной беготни за машинами. Поручил ребятам следить за дорогой, а сам вынул тетрадку, подвернул ноги калачиком и стал писать. Сегодня вечером надо отправить в редакцию первую заметку. Я писал в своей походной тетрадке и поглядывал по сторонам. Сейчас полдень, и людей в чайхане еще мало. Лениво булькал огромный самовар с медалями на медном боку. Рядом на толстой доске чайханщик резал длинные ниточки морковки для плова.
Скоро затрещит в котле баранина, зафыркает горячими пузырями рис, потечет по улицам и переулкам душистый запах плова. И тогда уже не устоит никто — ни женатый, ни холостой. Поглядывая на часы, придут минута в минуту конторские служащие, прошумят плиссерованными юбками продавщицы из соседнего магазина, притащатся какие-то взъерошенные дядьки с обвисшими карманами. Прилетит к заветному котлу и стая ос. Плова осы не едят. Они тут для компании и собственного удовольствия.
На ту пору у меня большие надежды. Утром шоферы из колхозов заняты в городе своими делами, а к вечеру, когда закрываются все конторы и магазины, разъезжаются по домам. Мимо чайханы никто не проскочит. Только сядут шоферы на палас, только возьмут из чашки горстку плова, а мы уже тут как тут:
— Возьмите, товарищ шофер. Ну что вам стоит!..
А пока волноваться нечего. Сиди, Карим, и жди. Так я и делал. Сидел на паласе и поглядывал на все, что творилось вокруг. Бежали куда-то по своим делам серые ишачки, вышагивали, не глядя под ноги, потертые, как старый диван, верблюды. Таджик в теплом халате нес на голове поднос с огромным ворохом теплых лепешек. Это к нам, в чайхану.
Я написал заметку и позвал ребят послушать первое сообщение с дороги. Заметка была маленькая. Она рассказывала, как начался поход, кто в нем участвует и какой мы наметили маршрут.
— Ну что, ребята, годится? — спросил я.
Все сказали «годится». Только один мальчишка, который первый заметил у меня уголек в глазу, остался недоволен.
— Надо про все писать, — сказал он. — Что случилось, про то и писать…
Все поняли намек. Понял это и Игнат. Лицо его побелело, а зеленоватые глаза стали сумрачными и неспокойными, как озера, по которым ударил холодный осенний дождь.
Первой за Игната вступилась Муслима. Она укоризненно посмотрела на мальчишку и сказала:
— Ты чего к Игнату цепляешься? Он и так переживает, а ты… Он мне сам все говорил. Правда, Игнат? Вот видишь! Он говорил: «Я сам скорее проеду. Одного и на машину возьмут, и на арбу посадят. И на лошадь вторым классом — то есть «сзади». Не Игнат заблуждался. А теперь он уже не заблуждается. Правда, Игнат? Скажи ему!
Выступили еще двое мальчишек. Потом я.
Я сказал, что картина ясная. Игнат хотел поскорее найти своего дядю. С этим надо считаться. Можно его на первый раз простить.
— Но ты это все учти, — сказал я. — Ты наш друг, но художеств мы не допустим. Порядок для всех один. Ты согласен со мной, Игнат, или нет?
Легко признают собственные ошибки лишь пустозвоны. А люди, которых занесло по ошибке не в ту сторону, переживают неудачу больно и трудно. Игнат наклонил голову. Мы поняли, что это крепче слова. Мы ему поверили и простили.
— Ну, хватит про это, — сказал я. — Теперь про дневники. Писать надо каждый день. Устал или нет, все равно — бери ручку и пиши. Теперь мы все юнкоры и все журналисты. Понятно, ребята?
Ответили мне хором. Все были согласны. Ребята полезли в рюкзаки за тетрадками. Заскрипели перья, загадочно зашелестели листки тетрадок. Не успокоился только низенький, рыжий, как подсолнух, мальчишка с длинной серьезной фамилией Алибекниязходжа-заде. Он был у нас в отряде самый маленький, самый задиристый и, кажется, самый трусливый. Алибекниязходжа-заде подсаживался то к одному, то к другому мальчишке и, опасливо поглядывая на Игната, говорил:
— Он думает, что он лучше всех, да? Он лопух, да? Как пойду, как дам ему по башке! Ты понял, да?
Я уже немного знал Алибекниязходжа-заде и поэтому радикальных мер не принимал. Башке Игната пока ничего серьезного не угрожало.
Ребята не успели изложить свои впечатления в дневниках. Только они расписались, появился почтальон с толстой дерматиновой сумкой на груди. Он остановился возле чайханы и помахал над головой телеграммой.
— А ну, кончай базар! Кто тут начальник похода Нечаев? Выходи!
Я бросил тетрадку и помчался к почтальону.
— Я Нечаев. Что случилось? Где телеграмма?
Почтальон недоверчиво посмотрел на меня и кратко, по-милицейски сказал:
— Документы!
Он долго изучал мое удостоверение. Склонив голову, как скворец, поглядывал краем глаза сначала на фотокарточку, потом на меня. Видимо, в его представлении начальник похода должен был выглядеть несколько иначе… Но все-таки почтальон убедился, что я — это я. Он отдал мне телеграмму, козырнул и смущенно сказал:
— До свиданья, товарищ Нечаев.
Дрожащими пальцами я развернул телеграмму и прочел:
«СРОЧНО СООБЩИТЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АЛИБЕКНИЯЗХОДЖА-ЗАДЕ ТЧК ВОЛНУЮСЬ ОТВЕТ ПЯТЬ СЛОВ ОПЛАЧЕН МАМА».