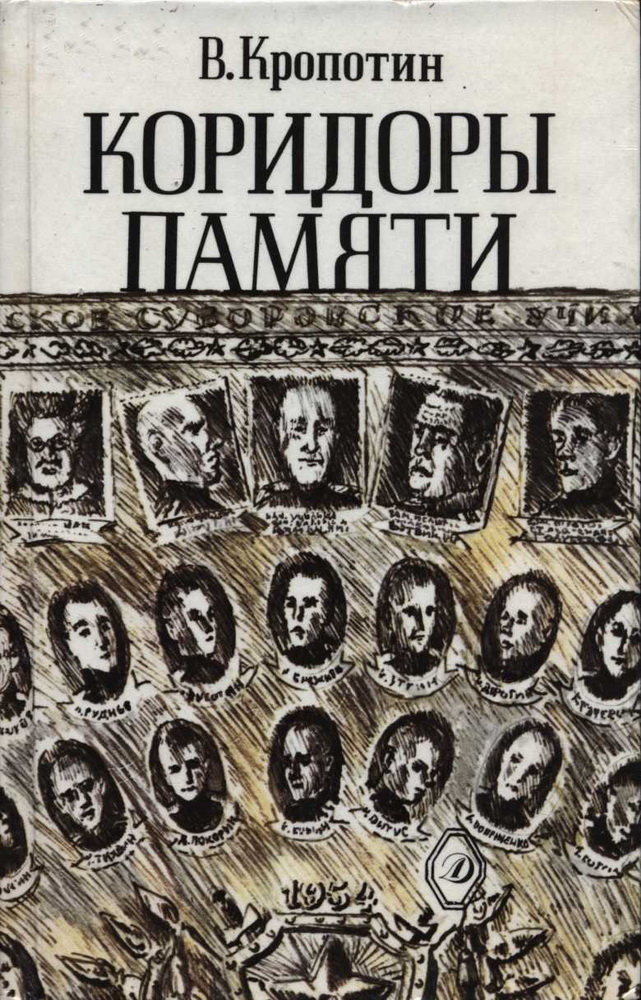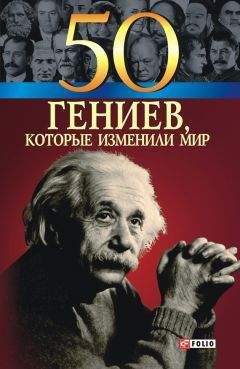пока он, не понимая ее и удивляясь ей, не сказал:
— Ты что, ты почему называешь меня на вы, я же твой внук, разве ты забыла?
— Ты что, золотой, не забыла я, — ответила бабушка, хотела было погладить его по плечу, но только едва коснулась. — Больше не буду, Димушка.
Дима приглядывался к деревне. Все в ней казалось неподвижным. Прибавилось тишины. Жизни стало как будто меньше. Только солнце по-прежнему старалось оживить безгласные пространства. От изб, от жердевых изгородей, от каждой травинки возникали тени. Такая же тень ходила за Димой. Чудилось, будто он сам становился как трава, как изгороди, как избы и чем-то еще, призрачным и переходящим в тень. Он узнал, что у тети Даши еще кто-то умер, а она уже снова ходила брюхатая, выгоняла по утрам из ворот такую же брюхатую корову. Кто мог льститься на эту приземистую женщину с утробно бессмысленным темным лицом? Понимала ли она, что жила? Без вести пропала последней весной смешливая и бойкая глухонемая Маня. Еще раньше преставилась безумная дочь Ильинишны. Кто-то перешел жить в другую избу. Окна трех изб оказались заколоченными досками. Кто-то перебрался в большую соседнюю деревню, а кто-то еще дальше, в село. Почему они не жили на месте? Ведь так хорошо было, когда они собирались в поле всей деревней.
Произошли перемены и в семье тети Насти. Уехала поступать в техникум Анюта. Призвали в армию двоюродного брата Никиту. Перед призывом он женился. Удивило Диму, что Никита уже мог позволить себе э т о. Видел Дима и его жену, небольшую плотную девочку с русыми волосами и уверенными бесстыжими глазами. Бесстыжей называла ее тетя Настя, а Диме она понравилась девической крепостью и зреющей чистотой. Но больше всего удивило то, что она тоже могла позволить себе э т о, что э т о проступало и в девичьей ладности ее тела, и в поступи крепких, чуть напухлых девичьих ног, и особенно в голубоватых глазах, смотревших по-летнему светло, независимо и твердо. Запомнилось ее простое будто из занавески платье. Говорили, что она уже с кем-то гуляла, но понять, в самом ли деле гуляла, было трудно, так, ничего не отрицая и явно не принимая упреков, держалась она. Выслушав свекровь, без оглядки направилась она в свою сторону по траве босая. Такой независимости не ожидал Дима встретить в тихой деревне.
Но жизнь здесь все-таки продолжалась. Никуда не уехал дядя Федор. Остальные тоже жили и все дни работали. Жаловались на трудодень. Жаловались странно, будто винить было некого. Не могли уговорить кого-то пасти поредевшее деревенское стадо, пастуху оказалось мало того, что они могли предложить ему.
Нет, Дима не забыл о деревне. Просто, пока ему было хорошо, никакого неблагополучия в жизни как бы не существовало. Этого и вообще почему-то не замечали. Как должное принимались совершавшиеся наверху события. Никого не тревожило, что люди в деревне жили плохо. Когда он рассказывал об этом ребятам, те смотрели на него так, будто не узнавали его.
— Ты где такую деревню видел! — опроверг его Уткин.
— Сказал тоже! — возразил Ястребков. — Это еще в прошлом веке было.
— Выдумал, — сказал Высотин. — Все книжки читает.
— Разогни, — привязался Зудов, показывая согнутый указательный палец.
— Ты это где-то вычитал, — уверял Гривнев.
Но некоторые все-таки заподозрили, что не все, что он рассказывал, являлось выдумкой.
— Это только у них там, в Вятке, — съерничал Светланов.
— Ты в какой-то дыре был, — сказал сибиряк Кедров.
— Лапотники, — по-своему поддержал Диму Руднев, что-то знавший о крестьянах, которые по собственному недоразумению предпочитали ходить в лаптях.
Часто сомневавшийся в заявлениях Димы и испытывавший за него неудобство Попенченко на этот раз, похоже, поверил ему.
Даже Зудов, почувствовавший перемену в настроении ребят, сам разогнул свой палец.
Однако через минуту ребята, наверное, уже забыли о какой-то там деревне.
Крестьяне вообще считались хуже рабочих. Конечно, последние отличались сплоченностью. Но почему одни должны быть хуже, а другие лучше? Чем хуже были его бабушка, тетя Настя, двоюродные сестры и брат? И тем не менее все, что делалось в стране, считалось правильным. Получалось, что и они, суворовцы, тоже правильные, если не видели, не слышали ничего плохого вокруг и в самих себе. Они оказывались такими правильными, что становилось все равно, быть ли Брежневым или Млотковским, Рудневым или Левским, Попенченко или Тихвиным.
Так вот все выходило. Последнее время Дима не однажды заставал себя за тем, что сочувствовал ребятам. Не всем. Тем, кому, казалось ему, приходилось труднее. Больше других вызывали сочувствие суворовцы старшей роты Шота и Кузькин. Оба любили, когда на них полагались. Оба терпели резкие, иногда несправедливые замечания тренера, и оба же гордились, если тот, а это означало признание их боксерских достоинств, приглашал их работать на лапах и доводил до изнеможения. Как ни мало друзья преуспевали, звание боксера поднимало их в собственных глазах, а самым горячим проявлением взаимной привязанности являлись для них шутливые поединки, которые они, похлопывая друг друга по щекам и плечам, могли затеять в казарме или на аллее у всех на виду. Особенно жалко было прямодушного, преданного всеобщему братству, начальникам и боксу Кузькина. Мускулисто-рельефный, приземистый, но будто пустотелый Кузькин так верил тренеру, что, если бы тот решил выставить его против чемпиона мира в тяжелом весе, Кузькин, не задумываясь, вышел бы на ринг. Несколько раз он проигрывал страшно. Роман выбрасывал на канаты полотенце и решительно махал руками судье, требуя прекратить избиение. Но и ошеломленный, не понимающий, откуда только что летели потрясавшие его удары и почему разверзался под ногами пол, Кузькин, едва ощутив похлопывания тренера, готов был снова двигаться навстречу противнику. Однажды, не поняв тренера, он с поднятыми к подбородку перчатками двинулся в дальний пустой угол и, пока его не вернул рефери, наносил там удары по невидимому сопернику.
Сейчас Дима готов был бросить бокс, хотя это означало бы, что он спасовал. Только так понял бы его Годовалов. Только так понял бы его и Руднев. Другие тоже поняли бы так. Без бокса, как и без всего, без чего вообще возможна жизнь, можно было обойтись. В конце концов, он мог заняться любимыми им математикой и физикой. Или взяться за что-нибудь еще, например, за музыку или рисование. Существовало множество и других интересных вещей. Но разве это что-нибудь меняло?
Он все-таки пошел на тренировку. Роман не подал виду, что помнил о происшествии, а Шота, еще издали улыбаясь Диме, подошел к нему и тихо ударил его под дых.
— Правильно сделал, — сказал он. — Плохой человек.
Одобрение