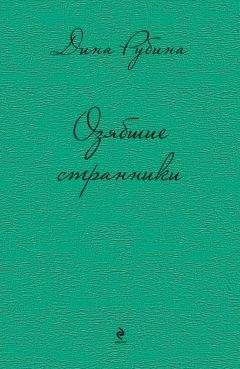А теперь что писать? «Здравствуй, Юрик, меня сегодня исключили из школы…»
Нет, можно, конечно, и про это. Можно рассказать Юрику про всё, что случилось. Юрик обязательно поймет. Он тоже возненавидит Гетушку, а Севку сдержанно, по-дружески пожалеет…
Но писать про вчерашний и сегодняшний случай было тошно. Опять всё переживать заново…
А если не про это, а только про весну? Но весна – это было сейчас не главное. При чем тут весна, когда на душе черным-черно?
Захлопали двери в коридоре, послышалось песенное мурлыканье:
Клен кудрявый,
Клен зеленый, лист резной…
Здравствуй, парень… трам-там-там…
Это вернулась из школы Римка. Через полминуты она стукнула в Севкину дверь.
– Чего тебе? – сумрачно отозвался он.
– Сев… А правда, что тебя из школы исключили?
– Иди к черту, дура! – гаркнул Севка.
Римка хихикнула и пошла к себе.
Клен кудрявый…
Севка беспомощно посмотрел на дверь. Зачем заорал на Римку? Может, лучше было бы впустить ее и рассказать всё по-хорошему? Римка в общем-то не злая и не такая уж глупая. Наверно, посочувствовала бы. А теперь всем разболтает… Хотя и так, наверно, все знают…
Ну и пусть! А чего ему стыдиться? Он по чужим карманам не лазал, стекла не бил, с уроков не бегал…
Севка решительно встал. Письмо он потом напишет. Может быть, не просто письмо, а стихи сочинит – про то, как он когда-нибудь приедет в Ленинград и они с Юриком обязательно встретятся. На берегу Финского залива…
Севка вышел во двор. Лужи обмелели, земля местами просохла. Было совсем тепло. Севка распахнул ватник и подумал, что можно ходить уже не в шапке, а в пилотке, которую подарил Иван Константинович. (Как он теперь живет, что с ним? В конце февраля было одно письмо, что доехал благополучно, встретился с женой и дочкой, а больше – ни гугу… А в его комнату въехал внук Евдокии Климентьевны Володя с женой, потому что у них скоро будет ребенок.)
У кирпичной стены пекарни на сухой и утрамбованной полоске земли играли в чику Гришун, Петька Дрын из соседнего двора и незнакомый мальчишка. Севка подошел и стал смотреть.
– Чё зыришь? – неласково сказал длинный Петька Дрын. – Хошь играть – играй… Или мотай отсюда.
– Денег нет, – вздохнул Севка.
– Ну и… – начал Петька, но Гришун сказал:
– Пускай глядит. Не кино ведь, билеты не берут. – Потом спросил у Севки: – Хочешь пятак в долг?
Севка помотал головой:
– Не… Я всё равно проиграю… – И самокритично добавил: – У меня меткость еще не развитая.
– Сам ты весь неразвитый, – заметил Дрын.
Севка снисходительно промолчал. Уж кто-кто, а Дрын бы не вякал. Он по два года сидел в каждом классе и к тринадцати годам еле дотянул до четвертого.
Третий мальчишка – верткий, чернявый, с длинными грязными пальцами, – не говоря ни слова, метал биток и аккуратно обыгрывал и Дрына, и Гришуна. Когда у тех кончились пятаки, он молча ссыпал мелочь в карман длиннополого пиджака и, не оглядываясь, пошел со двора.
– Фиговая жизнь, – задумчиво подвел итог Гришун. И тоже побрел куда-то.
Севка догнал его:
– Гришун… А помнишь, ты говорил, что, когда весна будет, свисток мне сделаешь из тополя.
– Не. Не помню… Да ладно, сделаю. Там работы – раз чихнуть. Только ветку добудь свежую.
– Я добуду.
Гришун шел к себе в стайку – сарайчик, в котором лежали дрова, хранилось разное барахло и стоял верстак. Севка не отставал, а Гришун не прогонял.
В стайке Гришун деловито оглядел стенку с развешанным инструментом и сообщил:
– Надо мамке полку для кухни сколотить, а то ругается: некуда кувшины ставить.
– А ты почему не в училище? – осторожно спросил Севка и подумал: «Может, тоже исключили?»
– Мы сейчас на заводе вкалываем, а нынче отгул.
– Прогул? – удивился Севка.
– От-гул. В воскресенье работали, а сегодня вместо него гуляем…
Гришун потянул с поленницы доску. Севка посмотрел на него и сказал неожиданно:
– А меня из школы исключили. На целую не-делю…
– Ух ты! – удивился Гришун. Даже доску оставил. – Правда, что ли?
– Ага.
Гришун подумал, сел на верстак, приподнял за локти и посадил рядом с собой Севку. Спросил с интересом и сочувствием:
– За что тебя так? Ты же еще маленький.
– А вот так… – Севка вздохнул и покачал ботинками. И начал рассказывать.
Гришун слушал со спокойным вниманием, иногда покачивал головой: понятное, мол, дело. И Севка рассказал всё как было. Даже не стал скрывать, что долго плакал в учительской.
Когда он кончил, Гришун задумчиво проговорил:
– Вот ведь какая она… – и добавил про Гетушку такие слова, что у Севки полыхнули уши. Но всё равно Севка был доволен.
Гришун сказал:
– А свисток я сделаю. Только ветку надо найти подходящую…
После разговора с Гришуном у Севки на душе полегчало. Вечером он до самого сна читал «Пушкинский календарь» и думал, сколько несправедливости испытал в жизни Пушкин. В ссылки его отправляли, травили по-всякому и убили, наконец. А ведь он был великий поэт, а не какой-то Севка Глущенко.
Спать Севка лег усталый и успокоенный.
Но наутро Севка опять почувствовал, какой он неприкаянный. Он скрыл от мамы тоску и беспомощную тревогу, но, когда мама ушла на работу, надел ватник и пилотку, взял сумку и пошел из дому. Будто в школу…
И так он стал делать каждое утро.
Близко к школе Севка не подходил – увидят, и шум поднимется: «Эй, глядите, Глущенко приплелся! Исключенный Пуся пришел!»
Иногда Севка прятался в Летнем саду под рассохшейся деревянной эстрадой и печально играл там, будто он Том Сойер, заблудившийся в темной пещере. Но долго в сумраке и застоявшемся холоде не поиграешь. И чаще всего Севка просто бродил по улицам и смотрел на весну.
Весне дела не было до Севкиной беды. Она хозяйничала в городе. Снег остался только в темных углах, а у заборов проклевывались травинки и похожие на сморщенную капусту пучки лопухов. Несколько раз Севка даже видел коричневых бабочек.
Севка старался уходить подальше от дома – на те улицы, где его не могли увидеть знакомые. И шагать старался не лениво, а озабоченно: я, мол, не болтаюсь просто так, а иду по своим делам.
Но если поблизости не было прохожих, Севка устало замедлял шаги. Иногда отдыхал на лавочке у чьих-нибудь ворот, а бывало, что садился на корточки и рассматривал гибкие травяные стрелки. Это были первые разведчики будущего лета. Лето всё равно придет. Придет несмотря ни на что на свете. Несмотря на Севкины несчастья. Мысли об этом слегка утешали Севку. Он трогал мизинцем щекочущие кончики травинок и при этом почему-то вспоминал Альку.
Все эти дни Севка не навещал Альку. Даже близко не подходил к больнице. Потому что думал: вдруг Алька от своей мамы знает, что его исключили? Вдруг начнет громко расспрашивать из окна, как это случилось? Хотя нет, расспрашивать не станет, она понятливая. Но всё равно стыдно будет: не потому, что он в чем-то виноват, а потому, что такой вот… несчастный какой-то, прибитый…
Иногда, шагая по просохшим деревянным тротуарам, Севка начинал сочинять письмо Юрику. То в стихах, то обыкновенное. Но мысли убегали, первые же строчки разваливались и забывались. И скоро Севка окончательно понял, что эти пустые несчастливые дни – не время для письма.
В середине дня Севка приходил домой – как все школьники. Прибегала на обед мама, торопливо кормила Севку. Про школу она не говорила и не упрекала его. Только была какая-то невеселая.
Кажется, мама догадывалась о Севкиных прогулках. Один раз она сказала с печальной усмешкой:
– Загорел-то как под весенним солнышком. Небось целыми днями на улице…
– Не целыми, – буркнул Севка. – Я уроки делаю.
Он в самом деле подолгу сидел за учебниками и тетрадками. Писал и решал гораздо больше, чем задавала мама. И это было совсем не трудно. И на душе легче делалось: все-таки не совсем разжалованный из учеников – хотя и дома, но занимается…
С Гариком Севка не играл, к Романевским не заходил. Во дворе Севка виделся только с Гришуном. Гришун сам нашел нужную ветку и сделал Севке громкий тополиный свисток. На следующее утро Севка развлекался свистком в Летнем саду. Свистеть он научился по-всякому: протяжно и с перерывами, ровно и переливчато. А потом Севка сделал открытие: когда мелко дрожит кончик языка (будто говоришь букву «Р»), получается милицейская трель. Как у постового на углу улиц Республики и Первомайской.
Севка решил испытать свисток: напугать кого-нибудь. Раздвинул в заборе доски и выглянул из сада на улицу. Севке «повезло». По другой стороне шагал не кто-нибудь, а железнодорожный милиционер – в черной шинели с серебряными пуговицами, в кубанке с малиновым верхом и с казацкой шашкой на ремне. Севка не удержался. Зажмурился от собственного нахальства и дунул: «Тр-р-р-р…»