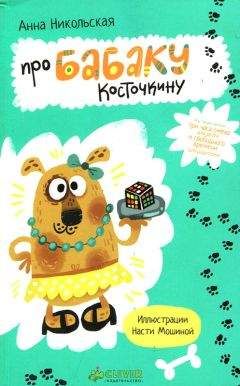Ознакомительная версия.
Это удар ниже пояса.
— Прости, но это на сноуборд, — холодно говорю я. Я не жадный, я просто бережливый.
— Ты всё ещё не понимаешь, не так ли? Скоро у тебя будет сто сноубордов, тысяча велосипедов и миллион айфонов! Счастье само плывёт к тебе в руки!
Бабака не в себе. Или мне это кажется?
— Ты всё понял?
Я быстро киваю — того и гляди, ещё покусает.
— То-то же! Вот тебе ручка, пиши. Я буду диктовать.
И я писал. Писал как проклятый, восемнадцать часов подряд, без перерыва на сон и ужин. Писал как не господин, но раб. Писал неистово, горячо и шумно, как Геркулес и Геракл, вместе взятые. Писал титанически, денно и нощно[12], не слыша и не видя ничего вокруг, не чуя под собою ног, не покладая рук, не зная устали.
Я позабыл о домашних обязанностях, о былых увлечениях и уже не помнил отца с мамой.
Да что там — я забыл собственное имя!
Я писал, как не писал «Войну и мир» Лев Толстой. Правая моя рука отказала, пришлось писать левой, пускай и с ошибками. Чуть позже я научился писать ногой. Исписав 38 пачек бумаги и 91 стержень, проделав в рабочем столе дыру, я отсидел себе попу и установил рекорд Гиннесса по скорописи среди четвероклассников. За это время у меня увеличились ступни и отрасли ногти на руках; перелётные птицы слетали на юг и обратно, а у родного папы прибавилось в бороде седины.
Дописав последнее, 40 871 059-е, письмо, я камнем рухнул под стол и проспал ровно сорок восемь часов.
Снился мне нигерийский принц Чарли в звериных мехах. Худенький и печальный, он сидел на пепелище сгоревшего дома и бивнем стучал в большой барабан из слоновой кожи: «Бом, бо-ом, бо-о-ом! Бом, бо-ом, бо-о-ом!»
— Не имей 40 871 059 друзей, а имей сто долларов, — грустно сказал мне Чарли и подарил алмазную корону.
Когда я проснулся, у моей кровати стоял сноуборд и сидел какой-то дяденька.
— Неужели сработало?! — закричал я. — Неужели всё-таки письмо счастья сработало?!
— Познакомься, — сказал папа. — Это начальник ЦРУ Джон Малкович. Вы с Бабакой обезвредили преступную нигерийскую группировку, которая шантажировала и похищала людей на протяжении вот уже двенадцати лет. Её главарь, известный гангстер по кличке Чарли, уже даёт чистосердечные показания. Бабака поймала его в одном из отделений Сберегательного банка, заманив Чарли в силки[13].
— Good dog! — широко улыбается Джон Малкович и похлопывает Бабаку по голове. — Карошая бабака!
Потом он вручает мне сноуборд, а Бабаке коробку собачьего печенья и уходит. Но мне становится грустно: выходит, что письма счастья я переписывал зря, а настоящих принцев в нашем безумном, безумном, безумном мире не существует?
Через четыре дня мне на сдачу дали лотерейный билет, и я выиграл «Ладу Калину».
И мы поехали с Нинель Колготковой в кино. Это она мне в тот раз писала, а совсем не Каланча.
Я сам не понял, как это произошло. С первого класса знаю Колготкову, особенно хорошо в профиль. Нинель сидит в первом ряду, а я во втором. Когда я смотрю в окошко, волей-неволей её нос попадает мне в поле зрения.
Когда Нинель дежурная и проверяет руки на грязь, Христаради говорит:
— Колготкова, не суй свой но-о-о-ос в мои дела, а то перепачкаешься! — и смеётся.
Я тоже раньше смеялся.
А потом мы с Нинель столкнулись в дверном проёме на перемене — лбами. Вернее, носами.
Просто искры из наших носов посыпались, ребята! Отошёл я от первого шока и как заору:
— Ты куда прёшь, Колготкова?!
Вернее, только я хотел так заорать, но в этот миг увидел Колготкову анфас и лишился дара речи.
Смотрю на неё, а она какая-то не такая в снопе искр. Какая-то необыкновенная, с глазами, с длинными ресницами… А нос как будто даже наоборот — маленький и картошечкой.
Стоит, ревёт, розовая вся, и говорит:
— Ты куда прёшь, Косточкин?!
А голос у неё при этом — ангельский.
Я такого голоса никогда раньше в жизни не слышал! Даже когда ходил с мамой во Дворец спорта на Николая Баскова.
Я стою как вкопанный и не могу пошевелиться. Внутри всё как на картине Айвазовского «Девятый вал».
— Ты чего, Косточкин? — спрашивает Нинель. — Совсем дурак, что ли?
— Сама дура! — говорю и дёргаю её за хвост. Раз, второй, третий!
И ведь, главное, не хочу дёргать, а дёргаю!
И развязно так подмигиваю Христаради.
Только бы, думаю, она ничего не заметила.
Но она и не заметила. Огрела меня рюкзаком по голове и побежала в столовую за беляшами.
Оказывается, Нинель любит беляши, а я и не знал раньше. Я вообще раньше ничего не видел дальше своего носа — был сущим эгоистом. А теперь на большой перемене я самым первым бегу в столовку, занимаю очередь для Нинель. Она купит беляш, выковыряет из него мясо, кошке во дворе отдаст, а сама тесто ест.
— Ты почему, Колготкова, — спрашиваю, — не ешь мясо? Тебе надо поправляться. Вон какая худая, в чём только держится душа!
А у Нинель глаза слезятся от радости — я знаю, как сделать женщине комплимент. Она уже третий месяц худеет, каждый день бегает в медпункт взвешиваться.
Однажды спрашивает у Каланчи:
— Наташ, скажи, я на Кейт Мосс похожа?
— Кейт Мосс тебе в подмётки не годится, — говорю я за Каланчу. — Ты же вылитая Констанция Бонасье!
— Какая ещё подстанция? — хмурится Нинель. Необразованная она у меня. Ну ничего, это дело поправимое!
Я повёл Нинель в драматический театр на «Трёх мушкетёров из Нахапетовки». Мама, задействованная в спектакле, посадила нас в первый ряд.
— Какая у тебя красивая мама! Волосы изумительные!
— Не волосы, — говорю, — а усы.
В той нашумевшей постановке мужские роли играли женщины, а женские — наоборот. Мама была Арамисом, а дядя Сева — Констанцией.
А Миледи вообще играл заслуженный артист России Пётр Павлович Кожемякин, ему семьдесят четыре года.
— Какая прелесть! — кричит Нинель.
Это я подарил ей складное зеркальце. Увидел в «Детском мире» — понравилось, и деньги тогда как раз были.
— Это мне? — спрашивает. — А за что? День рождения у меня в июле…
— Просто так, — говорю.
А чтобы не зазнавалась, я ей на химии подложил кнопку на стул, пока она отвечала у доски.
От любви я перестал спать и есть. Я осунулся. Бабака мне говорит:
— Влюблённые — такие мученики! Не страдай, лучше признайся ей во всём.
Бабака в любовных делах спец. В молодости она многим кружила головы.
— Колготкова, я тебя люблю, — заявил я на перемене.
— Дурак!
— А ты?
— Что я?
— Колготкова, ты не юли.
— Понимаешь, Константин, женщине ведь что нужно?
— Что?
— Женщине нужен подвиг. Вот ты бы смог ради меня с десятого этажа прыгнуть?
— Э-э-э…
— Вот видишь. А женщине нужен подвиг.
Идём мы как-то с Нинель из школы. Свой рюкзак я держу в руке, а её рюкзак закинул на плечо — тяжеленный!
— У тебя в рюкзаке кирпичи, что ли? — спрашиваю.
— Сам ты кирпич! — говорит. — Ноты там у меня. Я сразу после уроков хожу в музыкальную, вот и приходится таскать целый день. Я играю на фортепиано.
— А я на губах, — говорю, — как верблюд. Можно мне тебя послушать как-нибудь?
— Конечно. Приходи в музыкалку послезавтра, у меня концерт. Мы с Генриеттой Карловной будем исполнять в четыре руки этюд Майкапара «Бурный поток». Очень сложное произведение. В темпе престиссимо.
— Как это — в четыре? — не пойму я.
— Придёшь — увидишь. Только оденься поприличней. Там телевидение будет снимать.
Ради такого случая мы с мамой сходили в торговый центр «Ультра» и одели меня поприличнее. Смотрю на себя в зеркало — и не узнаю. Таким приличным стал, аж плеваться хочется. Светлый костюм, синяя рубашка и галстук-бабочка в рубчик. Что только любовь делает с такими темпераментными людьми, как я!
Пришёл в музыкальную с букетом жёлтых хризантем, стою в холле, не знаю, куда податься.
— Ты, мальчик, на прослушивание? — спрашивает какой-то мужчина с балалайкой и усами, как у Сальвадора Дали.
— Нет, — говорю, — я на концерт. Где у вас тут выступают на фортепиано?
Мужчина на меня посмотрел внимательно и говорит:
— На четвёртом этаже. Не в службу, а в дружбу передай, мальчик, Домне Платоновне домру, — и суёт мне балалайку в руки. — Только входи через заднюю дверь, там уже началось.
Поднялся я на четвёртый, а там оглушительные звуки — концерт вовсю идёт. Вошёл через заднюю дверь, как положено, осмотрелся.
Зал битком, телевизионщики с камерами, но Нинель я заметил сразу. Она сидела в первом ряду — бледная, в строгом чёрном платье и варежках.
Ознакомительная версия.