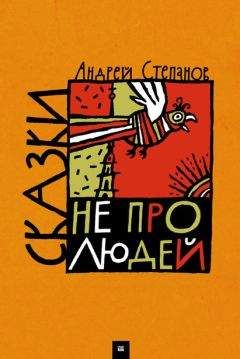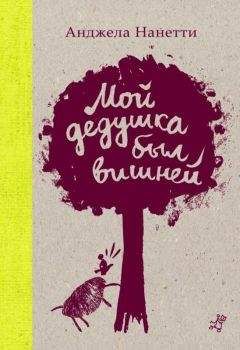Ознакомительная версия.
Вавила был студентом биофака, отчисленным с третьего курса за «художества» — так было сказано в официальном документе. Впрочем, Вавилины художества начались гораздо раньше, чем обучение зоологии, почти с самого рождения. Он был художником от природы, хотя никогда не рисовал, не лепил и не водил смычком. Это была идеальная русская натура — из тех лохматых сероглазых людей, которым не надо миллионов, а надо хоть что-то улучшить в этом мире: человеческую породу или, на худой конец, породу меньших братьев. Правда, поколение последних жертв социализма, к которому принадлежал Вавила, уже не верило в возможность переделки человека человеком, и потому художественные интересы будущего смотрителя никогда не выходили за пределы животного мира.
В детстве он мечтал стать дрессировщиком и воплощал свою мечту всеми доступными ему средствами. Он часами следил за рыбками в аквариуме, пытаясь понять их язык, а черепаху почти научил писать картины сливочным маслом. Повзрослев, он всерьез взялся за представителей высших видов. Учился Вавила на вечернем, а днем работал в дельфинарии и все рабочее время посвящал обучению дельфинов русскому языку. Он уже достиг весьма значительных успехов, но курс показался его ученикам слишком интенсивным. Как только у дельфинов набрался достаточный словарный запас, они пожаловались на Вавилу дирекции. Этот случай и стал тем последним художеством, за которое его выставили из университета.
Оказавшись не у дел, Вавила решил искать счастья вдали от цивилизации, в дикой природе. Он уехал на Памир и бродил там года два по горам в надежде выследить снежного человека. Полудикая бродячая жизнь сделала его таким странным и нелюдимым, что местные жители несколько раз принимали самого Вавилу за таинственного йети и устраивали на него охоту. В Москву он вернулся совсем грустным. Сумел ли он установить контакт со снежным человеком и что тот ему сказал — этого никто так и не узнал, потому что с обычными людьми Вавила теперь говорил редко, только по необходимости. В Москве он устроился в зоопарк и попросился к обезьянам.
После предательства дельфинов обезьяны оставались последней надеждой Вавилы. Но поступившее в его распоряжение семейство бабуинов оказалось склочным, бездарным и к тому же склонным к мелким пакостям. Прочие же приматы активно жили собственной жизнью и не обращали на Вавилины художества ни малейшего внимания. Вавила совсем отчаялся. Он подумывал уже о том, чтобы уволиться из зоопарка и податься в леса — но тут появился Билл.
На третий день знакомства, задавая корм и поливая клетку из шланга, смотритель случайно заглянул горилле в глаза. Встретив его взгляд, Билл вдруг встал на задние лапы, выгнул спину и три раза размеренно ударил себя кулаком в грудь. При этом он издавал протяжные заунывные звуки. Вавила прислушался. Звуков и жестов он не понимал, но общий смысл угадывался довольно ясно: примат пытался рассказать ему о своей жизни. И тут Вавилу осенило. Он как бы воочию увидел африканское болото, ненастный день и большого папу, изгоняющего восставшего сына. Вавила закрепил шланг на потолке клетки, имитируя дождь, встал в позу папы и повторил содержание речи Билла при помощи пантомимы. Увидев, что он понят, Билл сел на пол и заплакал.
У Вавилы закружилась голова. Все стало ясно: перед ним был настоящий талант, он нашел, наконец, ученика, которого искал всю жизнь. Впереди блеснул свет, появилась возможность хоть чуть-чуть улучшить Божие творенье. На следующий день смотритель установил перед клеткой Билла складной стул и приступил к первому уроку языка жестов.
* * *
— Вот ты сладенького хочешь, — бормотал Вавила как бы про себя. — Так попроси по-людски. Ну, смотри на меня. Правую лапу сгибаешь в локте. Да не так, на меня смотри! Левую убери вообще. Слегка сгибаешь. Во. Ладонь вверх, лодочкой. Лодочкой, тебе говорят, чтоб положить можно было чего-нибудь. Во. Корпус согни немного, морду опусти. Да не скалься ты, как мандрил, люди этого не любят! Главное — скорбное выражение. Ну, представь, что ты там у себя в Африке на ежа сел. Во! Вот такое лицо. Опа, лови банан! И поклонись дающему. Умница!
— Вот ты опять вкусного хочешь, а не дают, — бормотал он на следующий день. — И не дадут, задолбали тут всем попрошайки, полный зоопарк вас таких сидит. А ты учись дальше. Левую руку протяни, как правую вчера. Да лодочкой, лодочкой! Во. Теперь правой бей себя по лбу! Да не сильно ты, дурило, слегка. Во. Теперь в живот. Дык. Теперь по плечу по правому. Да по правому, я тебе говорю, ты ж не католик у нас! На меня смотри. Теперь по левому. Дык. А теперь еще раз все вместе и быстро. И еще быстрее! Опа, лови банан! Умница! Кланяйся! Молодчинушка ты моя! А теперь облизнись от удовольствия! У-ти, умничка какой!
— Вот он тебя шварценеггером назвал, а тебе до него не добраться, — бормотал Вавила на пятый день. — А ты ему русский кукиш. Ну, смотри на меня. Пальцы загни вот так. Вот, а теперь большой сюда сувай. Понимаю, что трудно. Надо, милый, надо. Ну, еще! Во. А теперь тычь ему, тычь! Умничка моя! И крути, крути лапой! Талант! Талант!
* * *
Через неделю Билл научился показывать нос, через две — крутить пальцем у виска, через месяц — пожимать плечами. Через полгода он умел почти все. Он мог сурово погрозить пальцем, с сомнением почесать в затылке, неодобрительно покачать головой, весело махнуть рукой на прощание. Он даже научился показывать рот-фронт и чебурашку.
Большие сложности вызвал жест «сделать круглые глаза», потому что глаза у Билла были и без того круглые, да еще упрятанные глубоко под лоб. Зато очень легко он усвоил жест «хрен тебе», который, как оказалось, полностью совпадал с жестом родного Биллу языка. Будь Вавила лингвистом, это вызвало бы у него ученые раздумья: пришел ли этот жест в Россию от горилл прямым путем, или по дороге нашлись посредники? Но Вавила лингвистом не был.
Билл привязался к Вавиле. По утрам он приветствовал его радостным урчанием и сразу начинал бурно жестикулировать, пытаясь показать, что он видел во сне: папу, Вавилу, дальние страны или тупого соседа-бабуина. Вавила выслушивал все до конца, молча кивал, а потом садился на стул и приступал к новому уроку.
Поскольку смотритель убедился, что Билл был кроток как агнец, иногда по вечерам он отпирал клетку и проводил для своего ученика экскурсию по зоопарку.
— Певчие птицы — они парами живут, — объяснял Вавила. — Один сезон вместе попоют — и разлетелись. Это ты еще поймешь когда-нибудь, бог даст. А вот смотри, кулики-плавунчики. У них папа один детей растит. Прикидываешь, да? Не то, что у вас или у нас. А вот ленивцы. Знаешь, почему их так зовут? А потому что они писают раз в неделю и при этом только всем коллективом…
Много интересного рассказывал Биллу ученый смотритель. Билл слушал, открыв рот от удивления: несмотря на свою солидную наружность, он оставался ребенком в душе.
Дни проходили незаметно, но по ночам, когда учитель уходил домой, Биллу становилось грустно и одиноко. Он думал о том, как велик мир, где живут чадолюбивые кулики-плавунчики и беззаботные ленивцы. Мир велик, загадочен и прекрасен, а ему суждено провести всю жизнь в тесной вонючей клетке по соседству с крикливым выводком похожих на недопап бабуинов. А ведь он был рожден свободным, и притом был в своей семье самым крупным, самым красивым и самым понятливым.
Шли месяцы, за ними плелись годы. Билл уже прожил в клетке бо́льшую часть безрадостной юности, и, скорей всего, и впрямь просидел бы в ней до самой смерти — если бы не президентское имя. На двадцатом году его жизни российско-американские отношения вдруг обернулись антиамериканскими настроениями, и как раз в это время московское правительство нагрянуло в зоопарк с развлекательной инспекцией.
Стоя перед клеткой Билла, официальные лица произносили обычные для этого места слова, но дойдя до слова «шварценеггер», вдруг смолкли, переглянулись и о чем-то призадумались. Осведомившись у директора, как зовут гориллу, они задумались уже всерьез. Правительство так и ушло задумчивое, а на следующий день в зоопарк вдруг пришел приказ, навсегда изменивший жизнь нашего героя. Отцы города предписывали подарить гориллу по кличке Билл американскому городу-побратиму Иоланте, столице одного из благодатных и консервативных южных штатов. Политический жест был прост и циничен: дарители рассчитывали, что увидев мужские стати гориллы и сопоставив их с именем «Билл», заокеанцы раз и навсегда усвоят российское отношение к бомбежкам Югославии и их организатору.
И его снова посадили на корабль.
* * *
Прибыв на новое место, житель теперь уже трех континентов быстро понял, на каком из них надо было родиться. Американский закон ставит права животных гораздо выше прав посетителей зоопарков, и потому каждый млекопитающий член иолантского зоокоммьюнити получал в свое распоряжение ранчо размером с московский зоопарк. Ранчо было обнесено забором такой высоты, что заглянуть внутрь мог либо вставший на цыпочки баскетболист, либо же человек обычного роста, поднявшийся на ходули.
Ознакомительная версия.