— Горшеня, конечно, тот ещё жук оказался, — вздыхает Иван, — но одно он правильно подметил: расселся я тут не вовремя. Отец мой помощи ждёт, а я пятки в костре грею!
Встал он и к своей землянке пошёл — чтобы немедленно в путь собираться. Надя за ним.
— Так завтра бы с утра и двинулись, — говорит. — Чего сейчас-то, среди ночи…
— Всё равно спать не могу, слишком мыслей в голове много. Да ещё здесь вот, — на грудь показал, — теснится всякое, успокоения не даёт…
— И всё ж таки погодите чуток, Иван Кощеевич, самую малость потерпите! — Надя на два шага к нему приблизилась и заговорила вкрадчиво, еле слышно: — Я ведь, когда ушёл дядя Горшеня, вослед ему блоху нашу запустила — Сазоновну. На всякий случай, думаю. Она — существо смышлёное, с соображениями, даром что насекомое. Если что с ним случится — блоха с вербной веточкой обратно прискачет, так мы с ней уговорились. А если всё гладко обойдётся — всё равно даст знать. Так что давайте подождём немного. Как только прискачет Сазоновна — так и отправитесь.
— Ай да Надежда Семионовна! — щёлкает губой Иван. — Ай да находчивая головушка!
Надя две свои ладошки-ложечки на его богатырскую грудь положила и говорит:
— Хотите, я с вами пойду?
Иван аж задрожал от такого смелого прикосновения, а от таких храбрых слов его и вовсе в жар бросило. А как ответить, не знает. С одной стороны, ему ох как охота, чтобы Надюша с ним рядом была, а с другой — не дело зазнобу такому лютому риску подвергать. Вон, одного постороннего уже впутал в свои дела — и в тюрьме тот побывать успел, и на тот свет сгонял, и дальше неизвестно что с ним станется! И все по его, Ивановой, безответственной безалаберности. Нет, Надю с собой брать никак нельзя. Нельзя — и точка.
— Нет, — отвечает твёрдо. — Не хочу вас опасности подвергать, Надежда Семионовна. Потому как… потому как дороги вы мне очень.
— Я в той опасности живу, — говорит Надежда. — Я к ней привыкшая: и сплю в ней, и кухарю, и лапти плету.
— Нет, Надежда Семионовна… — замялся Иван, своей твёрдости засмущался. — Был бы я бессмертным, взял бы вас с собою. А так…
— Почему? — удивляется девица. — Разве только с бессмертным счастье? Все мы здесь бессмертные, пока за жизнь свою не дрожим, пока без оглядочки живём.
Иван только вздохнул. Потом встрепенулся и дальше свои нехитрые вещи в суму стал укладывать. Всё уложил, одной только вещицы найти не может — и здесь посмотрел, и там поискал. А Надежда всё возле него стоит, не отходит.
— А я бы вам в пути помогла, — говорит, подумав. — Я и в науках хорошо понимаю, и по приметам ориентируюсь, и вынослива, как взрослая баба. Вы не пожалеете, ей-богу.
Иван из-под тёсанной сосновой скамьи, что в землянке стояла, вылез, посмотрел на Надюшу. Опять ничего сказать не нашёлся, под другую сосновую чурку забурился.
— С братьями хорошо, конечно. Только с вами-то интереснее. Опять же вам не скучно. Я и сказку могу рассказать, и рассказы всякие из букваря, и песню затянуть могу…
А Ивану ответить нечего. Он только имя заветное на все лады повторяет:
— Надя… Наденька… Надежда Семионовна, — а сам все по углам шарит, мусор из заначек выскребает.
Не вынесла Надежда этого упорного замалчивания, ногой топнула и как крикнет:
— Да что вы, Иван Кощеевич, ищете?
Иван сразу очухался, из томного состояния вышел.
— Да вещицу одну потерял, — говорит, — закатилась, видать, куда. Клубок самоходный, пунцовый такой, лохматенький.
— Вот те на! — ахнула Надежда. — Клубок! Я ж из этого клубка безрукавку дяде Горшене связала. Я ж думала, это его клубок…
Иван когда понял, в чём дело, так ладонью за рот и взялся.
— Мать честная…
— Да я вам возверну шерсть-то, — смущается девица, — добуду — возверну.
— Да ведь это же клубок с волшебной изюминкой! — машет Иван руками. — Он ведь туда, куда не надо, уводит!
Надежда Семионовна на чурку присела, руки на колени положила.
— Теперь, — вздыхает огорчительно, — вы меня, Иван Кощеевич, точно с собой не возьмёте…
А Горшеня в эту же самую минуту безрукавку свою пальцами потеребил, шерсть ладонью потёр. И вдруг — будто током его дёрнуло от неожиданной догадки: а ведь эта шерсть ему знакома! Он ведь её раньше теребил и нюхал! Когда? Да когда она клубком ещё была — тем самым клубком, который Ваня с собой носил!
— Ба! — Горшеня руками бороду придержал, чтобы та дыбом не встала. — Вот в чём дело-то! Ах, башка я бестолковая, кремень я перетёртый! Как же я раньше-то не догадался, какого ферзя на себе ношу! — отбросил на стол жилетку, а сам плюёт через левое плечо, собственной глупости дивится. — Фу ты, оказия какая! Что ж это получается! Надя-то, небось, про то, что этот клубок волшебный, и не знала, а Ваня — такая ж, как и я, бестолочь, проглядел! Вот и попал я, получается, туда, куда мне совсем не надо было!
Полегчало Горшене:
— Выходит, я не единолично во всём виноват, а была, значит, на то воля посторонняя, насмешка чудодейственная, с временным замутнением рассудка!
Разложил Горшеня жилет перед собой на пыточном столе, склонился над ним увесисто, будто допрос с пристрастием учинять тому собрался.
— Вот, значит, как всё завязалось, в какой узор сплелось! — размышляет. — А что завязалось, то развязать можно. Ведь так? Что, ежели мне это вязание распустить? Ежели мне эту шерстяную нитку обратно в клубок смотать, да только так, чтобы концы того клубка местами поменялись? Коли один его конец ведёт туда, куда не надо, то, может, обратный конец меня туда, куда мне надо, выведет! Эх, — вздыхает, — шатка надежда! Да всё устойчивей, чем отчаянье-то.
И вдруг снова уныние подкралось к Горшене, возложило на плечи холодные костлявыши и спрашивает его же, Горшениным, голосом:
— А как же прибор окаянный? Клубок — это ж чудо, стало быть, прибор ему дороги не даст!
Но смахнул Горшеня с плеч могильный холодок, ногами притопнул. И стал говорить громко, чтобы все вокруг предметы и одушевлённые сущности слова его услышали и приняли к сведению.
— Дудки! — говорит. — Чудо чуду рознь. Блоха Сазоновна — чем не чудо, а прибор на неё не подействовал. Правильно? Блоха — она, конечно, природное явление, но ведь размеры у неё не природные, а самые что ни на есть расчудесные. Стало быть, хоть по имени она и природный факт, а по отчеству — самое настоящее чудо. Вывод: не всё чудесное сей прибор заглушить может! Неужто какая-то там кривулина с двумя гвоздиками чудо чудное на нет свести может? Да ни в жисть! Потому как это вот конкретное чудо — клубочек китайский — моими верой и надеждой наполнен, да Надиной любовью пропитан, да Ивановым стремлением направлен, — какой дурной железяке эдакой тройной силище противостоять! Это их никвизиторские чудеса пусть приборов слушаются, потому как и не чудеса были, а наше чудо — оно самого животворного, самого человечного происхождения, ему никакие приборы не страшны, оно само с наукой в согласии находится и никакому естествознанию не перечит! И это правильно!
Закончил Горшеня свою речь программную, огляделся. Эх, жаль, никто его не слышит — так красиво сказал! И главное — сам себя полностью убедил, даже душа заёкала и голова прояснилась.
— Да не есть ли, — выдаёт тюремный оратор заключительный пассаж, — сама природа, сама земля наша, сама человечья и всякая иная жизнь — самые чудесные чудеса на свете!? А вы, господа никвизиторы, на них — с прибором! Э-эх…
Погрозил пальцем невидимым своим неприятелям и уселся за стол: рукава засучил, к жилету подобрался, себя наставляет:
— Вспоминай, Горшеня — глупое сооруженье, как там Надежда эту вещь вязала, с чего начинала… Не помню, не застал; когда я в лагере очнулся, она середину уже вязала. Но вот ворот она мне перед самым концом работы примеряла! Стало быть, воротом она работу заканчивала! Значит, надобно с ворота вязание распустить, а потом клубок ещё раз обратно перемотать! Успею ли? Надо успеть, надо засветло успеть, Горшеня! Ну, узелок мой заветный, развязывайся!
И принялся Горшеня за работу — нашёл узелок, потянул хвостик, выудил красную шерстяную нить, и стал клубочек в его умных руках сам в себя сматываться, круглой плотью своею обрастать, окукливаться.
— Прости, Надя, — говорит Горшеня, — придётся мне твой подарок в оборот пустить, всю работу твою восвояси распатронить.
Отец Панкраций, как только от Горшени ушёл, велел себе седлать коня, решил самолично во главе погони скакать. И верно — когда речь о захвате престола идёт, на сподвижников надежды мало. Помощник Парфирус в седло его подсадил и допытывается самым потаённым шёпотом:
— С королём-то бывшим что делать прикажете, ваше святейшество?
— Ничего пока не делайте, — приказывает отец Панкраций. — До утра он — король, существо неприкосновенное. А с рассветом видно будет.
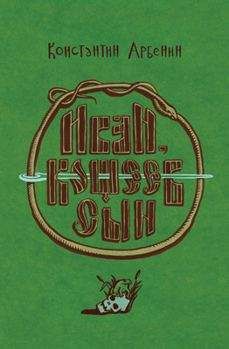




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)