— По-вашему получается, Надежда Семионовна, — говорит ей Иван с чересчур отчаянной какой-то решительностью, — вместе уходим! Видать, никуда нам друг от друга не деться.
— Это от дяди Горшени никуда вам не деться, — отвечает Надежда Семионовна. — А со мной вам разлука предстоит.
Иван остановился на полушаге.
— С чего вы взяли? — спрашивает.
— Чувствую, — говорит Надюша.
Вот и предел той всеобщей радости — на смену ей уже разлука спешит, стучит подкованными копытами по влажной лесной земле, горячим собачьим потом травы обугливает…
А Горшеня очнулся оттого, что старшая мышь усами его щекочет — прямо в ноздрю попасть норовит. Он как чихнёт — чуть всех маленьких помощников со стола не сдул! Потом голову ладонями обстучал, сон из себя повытряхивал.
— А вы что, — спрашивает, — и клубок уже в обратную сторону перемотали?
Мыши кивают своими разумными головками, поблёскивают умненькими глазками.
— Ну спасибо вам, мышата, друзья вы мои серобокие! Всё в помощь вам!
Встал и поклонился им Горшеня. Мышата пискнули весело — и спешно под стол.
Вот везение-то — и выспался, и клубок к употреблению готов! Горшеня на прибор оглянулся: дескать, мигаешь, глупый, а тут чудеса вовсю творятся и на тебя поправку не делают! Погладил Горшеня волшебный клубок, к щеке прислонил.
— Ну, — говорит, — теперь ты выручай, клубочек-голубочек. Показывай путь-дорогу, веди меня куда надо.
Клубок из рук выпрыгнул, сделал три подскока, оттолкнулся от одной стены да в другую стену со всего маху — шлёп! Стена, понятное дело, на месте стоит, ничего в ней не дрогнет, ни один каменный мускул не дёрнется. А клубок снова подскочил и опять в ту же стену — хлоп! И так раз за разом, пока вдруг не проскочил прямо сквозь стену — только нитяной хвост наружу торчит и по полу волочится. Горшеня рот раззявил, да особо зевать некогда, стартовать пора: ухватился он за шерстяной хвостик, закрыл глаза — и шагнул прямо в стену каменную, будто сквозь каучук какой-то варкий протиснулся. А там, за стеной, открылся Горшене длинный полутёмный тоннель. Побежал Горшеня по тому тоннелю за клубком. Бежит и думает: «Прибор-то, однако, совсем бракованный: столько чудес вокруг него натворилось, а он хоть бы хны!»
А тоннель всё теснее становится, всё ниже свод его над Горшеней опускается, уже в некоторых местах маковку скребёт. И видимость всё хуже — хорошо еще, что клубок красного цвета! А тут ещё ноги у Горшени похолодели и намокли. Смотрит он, а внизу вода течёт, ноги студит. И чем дальше, тем выше вода поднимается. А из тех мутных вод будто свет какой-то исходит, огоньки какие-то плавают. Пыхтит Горшеня, ногами по воде хлюпает, старается от поводыря своего не отставать. А клубок шустрый, роздыху Горшене не даёт и вплавь запросто передвигается.
Тоннель тем временем всё сужается, пригибает Горшеню, а вода ему теперь по пояс, уж и локти замочил. Вот и совсем худо стало — сузился проход до круглой трубы, и воды в ней — почти до самого потолка. Делать нечего; Горшеня намотал конец нитки на запястье, воздуху в себя набрал да и занырнул в ту воду.
А под водой — красота сверкающая, по всему дну и в стенах драгоценные камешки поблёскивают, да ещё какие-то непонятные светящиеся объекты вокруг Горшени плавают — то ли гнилушки, то ли светляки какие водоплавающие! Горшеня прозрачную воду руками раздвигает, ногами от стенок тоннеля отталкивается, а сам думает: «Не иначе как это личная царская канализация! А то с чего бы тут столько драгоценностей понатыкано было!» И тут кто-то его покусывать стал — то за один бок цапнет, то за другой, а то и в щёку. Горшеня принялся отмахиваться, да от тех резких движений ориентиры подводные потерял, едва успел вверх ртом вынырнуть и воздуху немного заглотнуть да ещё успел заметить, что воздушного пространства в тоннеле осталось — с филькину бородавку. А тут в голень опять кто-то — хвать! Так больно грызанул, что Горшеня опять в воде руками затабанил и в нитке от тех хаотичных движений запутался! Пытается руки освободить, да лишь ещё пуще завязывается. Вертелся-крутился — ничего не помогает, только пуще увяз, по локти закутался в шерстяную сетку. А тут и ноги увязли, и всё тело. Скукливается Горшеня, весь клубок на себя намотал, одна испуганная голова торчит из того кокона. И воздуха в запасе почти не осталось, а светящиеся твари вокруг него вьются и побольнее укусить норовят. Пропадает Горшеня подчистую!
Отбивался Горшеня от кусак, пока воздуха хватило, всем телом их отбрыкивал, а потом как-то исхитрился, оттолкнулся спутанными ногами от дна, рванулся вверх, чтобы новую порцию воздуха в лёгкие запустить, а верха-то и нет! Вода до потолка дошла, воздуху не оставила! Что делать? Умирать опять? Не время теперь умирать-то. Горшеня заметался из последних сил, подал назад, всплыть пытается, но лишь стукается о каменные стены, бьётся о шершавый свод. Стал уже сознание терять, ловить глазами успокоительных зайчиков, да вдруг прямо перед собой видит немалых размеров рыболовный крюк с наживлённой на него плотвичкой. Горшеня, не раздумывая, тот крюк вместе с наживкой ртом захватил и дёрнулся что есть мочи. Крючок в щёку ему вонзился, насквозь продырявил, да лучше уж дырка в щеке, чем всему человеку безвременная кончина!
Дёрнулся крючок, и понесло Горшеню — одним махом наружу выбросило!
И вот уже лежит Горшеня на мокрой каменной плите, в кромешной темноте, воздух драгоценный за десятерых вдыхает. Отдышался чуток, выплюнул плотвицу, путы кое-как порвал, руки-ноги высвободил, стал крючок из щеки вытаскивать. Вытащил, дёрнул леску, а леска куда-то вглубь, в самую темноту уходит. Пригляделся Горшеня — видит, что находится он всё в том же тоннеле, только тоннель уже широкий стал, не тоннель — коридор каменный. И вдалеке вроде как дверь какая-то виднеется, поскрипывает, а из-за неё пробивается едва заметный свет. Горшеня встал на ноги и поплёлся в ту спасительную сторону, на свет. Идёт, леску на руку наматывает, порванную щёку языком ощупывает, кровь рукавом вытирает, радуется, что вышел живым из такой передряги. Подошёл к двери, а она приоткрыта, и тихие звуки оттуда доносятся — будто кто-то орешки колет и скорлупу на пол сплёвывает. Тут и леска кончилась — повис её порванный конец в Горшениных руках.
Толкнул Горшеня дверь — та и поддалась. Зашёл в комнату и видит: в углу пустая всклокоченная постель, рядом с нею — тумбочка типа лазаретной, а на ней — блюдечко натрое расколотое и огрызок от яблока — давнишний, весь уже заржавленный. Возле того натюрморта свечка в гранёном стакашке горит, пламя мерцает, едва теплится. Горшеня осторожно подходит к постели, и каждый его шаг глухим скрежетом отдаётся, потому как весь тутошний пол сплошь закидан ореховой скорлупой. Остановился, замер на мгновение, а рядом с ним новая ореховая скорлупка — бряк.
Горшеня обернулся и видит у противоположной стены большое деревянное кресло, а в кресле кто-то сидит и орешки щёлкает. Да только Горшенина тень так на этого щелкаря падает, что разглядеть его не даёт никакой возможности. Горшеня в одну сторону отходит, в другую, а тень его всё равно на месте остаётся, сидящего в секрете держит. И вдруг этот затенённый говорит:
— Где ты, Горшеня, лазишь? Я уж извёлся, тебя разыскивая!
Узнал Горшеня Иванов голос — так и задрожал от радости.
— Ваня! — кричит. — Живой!
— Живой, да не совсем, — говорит Иван и медленно с кресла поднимается.
Горшеня в слова не вник, обнял Ивана с размаху, а Иван на ощупь худой какой-то, щупленький и прохладный. Горшеня стал присматриваться, а Иван и одет как-то странно — по-женски одет, и коса у него длинная, прямо до земли. Горшеня эту косу изо всех кос узнает — это же его Аннушки коса русая! Только захотел Горшеня объятия разъять да заново на того, кого обнял, глянуть, ан нет — не успел! Услышал только Аннушкин голос — и замер тотчас, будто окостенел, ни рук, ни ног своих не чувствует! А голос стонет:
— Говорила я тебе, Егорушка, чтобы ты ко мне не прикасался, а ты меня не послушался, не вытерпел, не выдержал такого простого испытания…
Горшеня хочет объяснить, что это он вовсе не её, не Аннушку свою, обнял, но от отчаяния даже одного слова вымолвить не может. И чувствует, что это самое отчаяние, как давеча в камере, всего его холодом пронзает и превращает в ледяного истукана. И это уже не он, Горшеня, обнимает кого-то, а оно, его отчаяние, сдавливает Горшенины тело и душу в своих холоднющих объятиях.
Снова, как только что в воде, стал Горшеня задыхаться — и вдруг проснулся.
Видит: лежит он головой на пыточном столе, возле него — треть недораспущенной безрукавки, клубок куда-то под стол укатился. Вот тебе и чудеса!
Горшеня сразу в себя пришёл, будто ведро воды на него выплеснули.
Сколько времени он спал?
Не стал он вопросом этим мучиться, ни о чём другом раздумывать не стал, а разыскал быстро клубок и давай дальше его сматывать — жилетку распускать. Нет больше времени ни на какие раздумья, только всего и осталось на дело — рассыпной минутной мелочи!
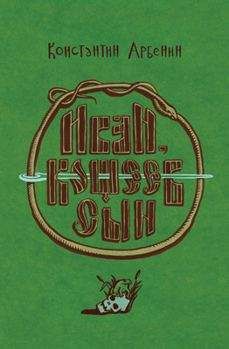




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)