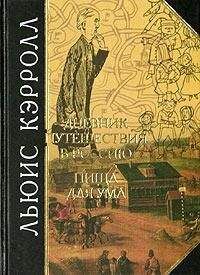— Кажется, я вас понял, — отвечал Граф. — Музыка небес — это нечто такое, что находится за пределами нашего разума. Зато земную музыку мы вполне можем понять, и она поистине прекрасна! Мюриэл, дитя мое, спой нам что-нибудь на ночь глядя!
— Просим, — подхватил Артур, вставая и зажигая свечи на пюпитре скромного пианино, лишь недавно убранного из гостиной, чтобы освободить место для более солидного «светского» фортепьяно. — Вот — песня, которую я никогда не слышал из ваших уст.
Дух, презревший небыль!
Птицам не понять
Льющуюся с неба
Твою благодать! —
прочла она на первой открывшейся странице.
— Вот и человеческая жизнь, — продолжал Граф, — в это великое время похожа на летний день малыша! И когда приходит ночь, человек очень устает, — добавил он, и в его голосе послышалась нотка печали, — и ему пора ложиться в постель! Ибо уже слышится голос: «Пойдем, малыш! Пора спать!»
Глава семнадцатая
ПОМОГИТЕ!
— Нет, спать еще рано! — отозвался сонный детский голосок. — Вон и совы и не думают ложиться спать, а я не хочу спать, пока они не споют мне песенку!
— Ах, Бруно! — воскликнула Сильвия. — Разве ты не знаешь, что совы по ночам вообще не спят? Зато лягушки давным-давно улеглись на подушки!
— Но ведь я же не лягушка! — возразил Бруно.
— А хочешь, я тебе спою? Вот только что же тебе спеть? — предложила Сильвия, не желая попусту препираться с братиком.
— Спроси господина сэра, — отозвался малыш, обняв ее за шею и укладываясь на огромный лист папоротника, прогнувшийся под его тяжестью. — Знаешь, Сильвия, этот листок ужасно неудобный! Найди мне, пожалуйста, какой-нибудь другой! — добавил он после некоторого раздумья, увидев, что Сильвия предостерегающе подняла пальчик. — Мне вовсе не нравится спать вниз головой!
О, это было весьма трогательное зрелище — видеть, как очаровательная девочка берет братика на руки и укладывает его на более упругий листок. Она едва коснулась одного листка — и он тотчас закачался, словно ему помогал в этом некий скрытый механизм. Ветра не было, и даже легкий вечерний ветерок давно утих, так что листья у нас над головами словно оцепенели.
— Ты не знаешь, почему этот листок так дрожит, тогда как другие спят? — обратился я к девочке.
В ответ она только улыбнулась и покачала головой.
— Нет, не знаю, — проговорила она. — Но он всегда покачивается, стоит только маленькой фее улечься на него. А сейчас именно такой случай…
— А люди, которые не видят фей, могут видеть, как он качается?
— Да, разумеется! — воскликнула Сильвия. — Листок и есть листок; его могут видеть все кто угодно, а Бруно есть Бруно, и его видеть невозможно, пока в человеке не появится феерическое настроение — ну, такое, как у вас.
Теперь мне стало понятно, почему, оказавшись в лесу, мы иной раз видим, как один из листьев папоротника покачивается словно сам собой. Готов поклясться, что и вы тоже видели это. В следующий раз попробуйте посмотреть, не спит ли на нем фея. Но только, прошу вас, не рвите такой листок: дайте крошке выспаться!
Тем временем Бруно уже дремал.
— Спой что-нибудь! — пробормотал он, обращаясь к сестренке. Сильвия вопросительно поглядела на меня.
— Что же мне спеть? — спросила она.
— Не хочешь ли спеть ему колыбельную, которую ты мне когда-то пересказывала? — предложил я. — Ту самую, где происходят всякие забавные вещи. «У маленького человечка было крошечное ружье». Помнишь?
— Да это же одна из песенок Профессора! — воскликнул Бруно. — Мне ужасно нравится этот человечек, а еще — как они кружились: совсем как волчок. — С этими словами он ласково взглянул на пожилого джентльмена, сидевшего на другой стороне того же самого листка папоротника. И тот тотчас запел, подыгрывая себе на чужестранской гитаре, а улитка, на которой он восседал, принялась покачивать рожками в такт мелодии.
Он ростом вышел негусто:
Просто Карлик — и все дела.
Он грустно взглянул на лангуста,
Что к чаю Жена принесла.
«Подай мне ружьишко и пульки
И подковку на счастье дай —
Я Уточку крошке-женульке
Подстрелю, так и знай!»
Она ружьишко достала,
Подковку сняла для него
И булочку обещала
Испечь к возвращенью его.
И он, понапрасну словечки
Не тратя, побрел невпопад
На берег, где птички у речки
Так протяжно кричат;
Где Крабик ползет, и Омарчик
Клешней загребает пески,
Где Дельфинчики и Кальмарчик
Ныряют наперегонки;
Где мчит Жужелица, как циркачка,
Где прячется Жаба на дно,
Где Уток гоняет Собачка —
Там добычи полно!
И он снял ружьишко и вышел
На берег тихо, как сон —
И вдруг Голоса услышал
Отовсюду, со всех сторон.
И пели они, и рыдали,
И смеялись за пятерых,
И стоны тоски и печали
Слышались в них.
Они вдалеке разносились,
Скользя по траве и воде,
И, словно волчок, кружились
В усах его и бороде.
«Отмщенье! Мы жаждем мести!
Пусть Карлик послушает нас
И с нами оплачет вместе
Наш печальный рассказ!
Пускай он грезит спросонок,
Как Бычок на Луну мычит,
На Скрипке играет Котенок
И Ложка в Тарелке бренчит.
Пускай почтит грустным вздохом
Паучка, что в стакан забежал
И глупую мисс Неумеху
До смерти перепугал!
Пускай безумие Лета
Побольней ужалит его,
И сердце, восторгом задето,
Задрожит в груди у него.
Пускай его наважденье
В объятья свои заключит,
И громко, до самозабвенья,
Песнь Креветок звучит!
Такова уж Уткина доля:
Утенок молчит — ни бум-бум.
Пускай его на застолье
Украсят рис и изюм.
На вертеле над камином
С Судьбой он поспорит пускай!
Он не был нам другом старинным:
Стреляй же, стреляй!»
Он выстрелил — и замолчали
Тотчас Голоса над рекой.
И он, не зная печали,
Добычу отнес домой.
И, слопав все, что Жена в печке
Успела испечь и сварить,
Он снова отправился к речке —
Селезня ей подстрелить!
— Кажется, он уснул, — прошептала Сильвия, осторожно поправляя краешек листка фиалки, которым она укрыла братика наподобие одеяла. — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — подхватил я.
— И впрямь, пора пожелать спокойной ночи! — засмеялась леди Мюриэл, опуская крышку фортепьяно. — Ведь все время, пока я пела, вы преспокойно дремали. Вы хоть помните, о чем я пела, а? — укоризненно спросила она.
— Кажется, что-то такое об утке? — предположил я. — Или о какой-то там птичке, верно? — поправился я, заметив, что, мягко говоря, был не совсем точен.
— О какой-то там птичке? — повторила леди Мюриэл с такой иронией, на которую только была способна. — Нет, вы только послушайте, как он отзывается о «Жаворонке» Шелли! Помните, поэт говорит: «Дух, презревший небыль! Птицам не понять…»
С этими словами она направилась в курительную комнату, где, презрев правила светского тона и кодексы рыцарской чести, трое Высокочтимых Лордов мирно уселись на низеньких стульчиках, милостиво позволив леди присутствовать среди нас, а заодно и подавать нам прохладительные напитки, сигареты и спички. Правда, один из них в своем рыцарстве пошел чуть дальше тривиального «благодарю», процитировав строки нашего поэта о том, как Герант, принимая из рук Эниды блюдо, дерзнул
Припасть губами к пальчику руки,
Поставившей на стол такое блюдо, —
и тем самым как бы воспроизвел сценку из поэмы — милая вольность, за которую он, надо признаться, не получил ни пощечины, ни даже выговора.
Когда все темы для беседы были исчерпаны, мы вчетвером, будучи на короткой ноге друг с другом (а именно такова, на мой взгляд, дружба, претендующая на титул интимной), не сочли нужным разговаривать просто ради разговора и умолкли. Наступила непродолжительная пауза.
Наконец я нарушил молчание, спросив:
— Нет ли каких-нибудь свежих новостей о лихорадке?