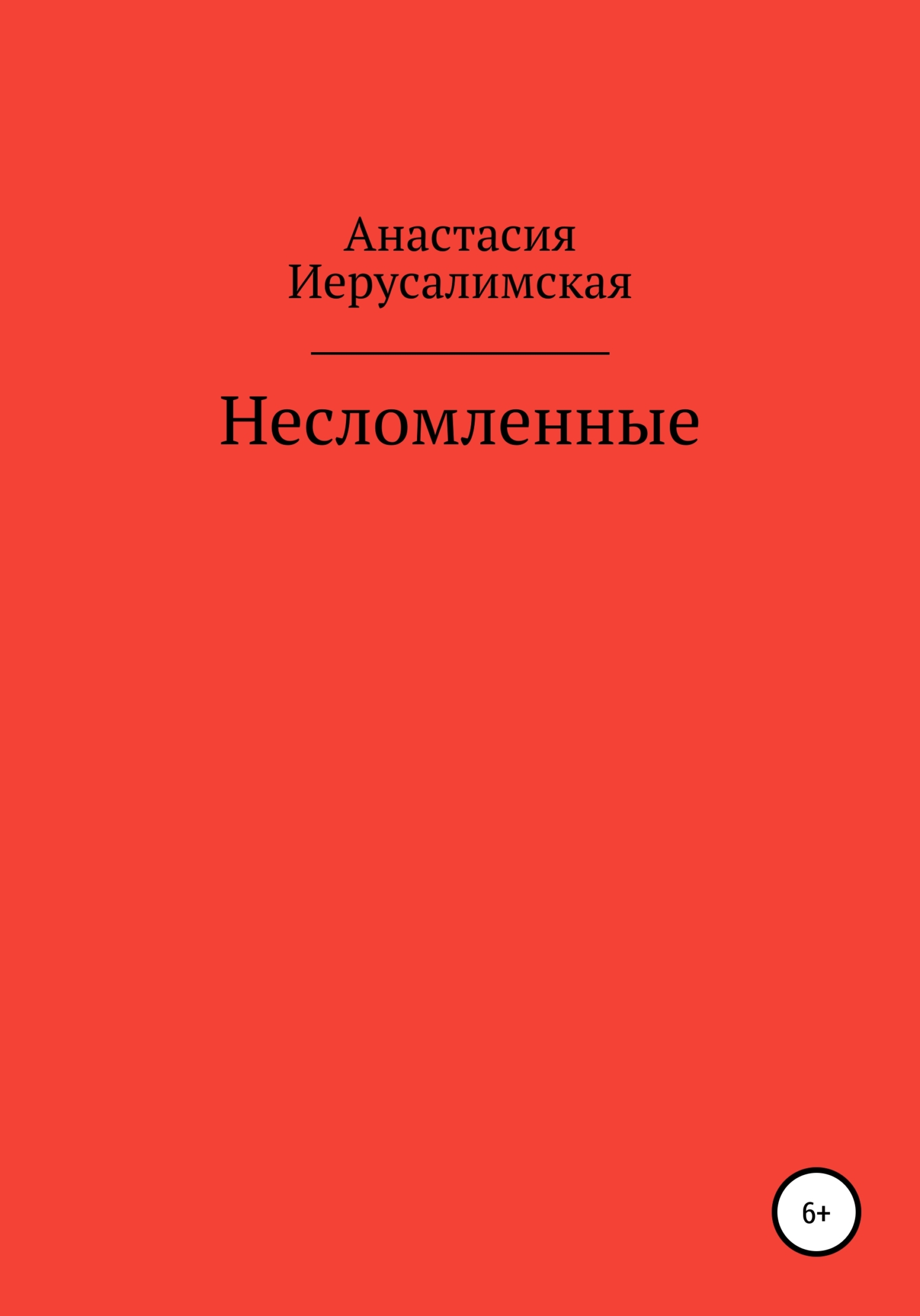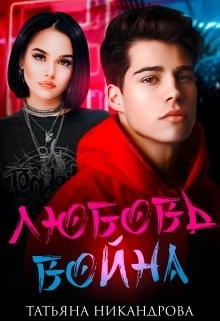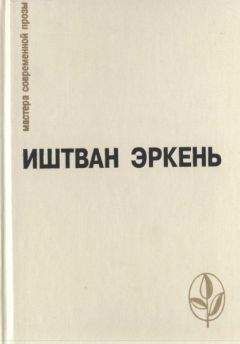Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады-
мы не покинем наших баррикад…
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
(О. Берггольц)
Раннее утро. Я открываю глаза, просыпаясь, и первое, что чувствую – холод, пронизывающий до костей, безумный, сводящий с ума, постоянный, невыносимый и жестокий холод. Градусник за окном показывает минус тридцать пять по Цельсию. Некоторые стены в нашей квартире покрыты изморозью, они промерзли насквозь. Мы давно уже спим в одежде – всё теплоё, что нашлось в доме, сейчас надето на мне и маме, но я не могу согреться. В нашем городе нет электричества – а это значит, что нет света, но если бы и был, его запрещено зажигать – нарушение светомаскировки, фашистские люфтваффе бомбят Ленинград почти непрерывно, и даже крохотный огонёк во тьме – наводка для врага. В окнах нашей квартиры, как, впрочем, и всех квартир в городе, нет больше стёкол – они забиты фанерой, поэтому в комнатах вечный полумрак. Но даже хуже отсутствия света – отсутствие тепла, водопровод замёрз, нет воды, у нас осталась только маленькая печурка-времянка – её сложил папа перед тем, как уйти на фронт. Я топлю её обломками мебели: стульев, тумбочки, небольших книжных полок, шкафчика, паркетных плиток пола – всего, до чего смогли добраться мои руки, которым ещё хватает сил держать маленький кухонный топорик. А когда закончится мебель, в ход пойдут книги.
К сожалению, поддерживать огонь в печке весь день не получается – на это нужно очень много топлива, которого у нас нет, да и теплоотдача у нашей маленькой спасительницы невелика. Впрочем, и за то спасибо! «Мы выживем!» – повторяю я маме каждый день – «Во что бы то ни стало, выживем и дождёмся папу!». Она согласно кивает, но, как мне кажется, уже не верит в это. Ничего, я сумею позаботиться о ней и о себе. В январе 1942 года мне исполнилось четырнадцать лет, и я чувствую себя невероятно взрослой, хотя из старого потрескавшегося зеркала в прихожей на меня всякий раз испуганно смотрит худенькая, почти прозрачная, замерзшая большеглазая девочка, закутанная в папин полушубок и валенки. Это зеркало лжёт – я взрослая и я справлюсь.
Первое дело, после того как встала – принести воду. Мама не может выходить, от холода и постоянного недоедания у неё очень распухли ноги, они не влезают даже в валенки, поэтому по дому она с трудом ходит в самодельных сапогах, сшитых из старой шубы и подбитых войлоком. Сначала я набирала воду из люка на улице примерно в квартале от нашего дома, это было тяжело, так как на подходах к люку были сплошные ледяные горки. Появлялись они из-за того, что ослабевшие люди не всегда могли донести воду, она проливалась прямо на снег, и так со временем нарастал холмик. А ещё там лежат мёртвые – те, кто не смог дойти до воды и их тоже засыпает снегом и заливает водой и они тоже образуют эти ледяные горки. Наверное, это страшно – но я уже не чувствую ужаса. Сегодня смерть – частый гость в моём городе, я вижу её на улицах каждый день, но никогда к ней не привыкну. Как же я её ненавижу! Никогда не перестану бороться, ни за что не уступлю себя и свою семью этому кошмару!
Сходить за водой, не замёрзнуть по пути, затопить печку, помочь маме дома, не умереть от голода, сохранить остатки тепла, заснуть и проснуться – вот маленькие ежедневные кирпичики, из которых складывается моя борьба. Ты спросишь меня, зачем я пишу всё это, к чему мой рассказ? Знаешь, мне просто так легче. Я словно говорю с подругой, такой же девочкой, как я сама, но только живущей в будущем – безопасном, красивом и мирном, не тронутом бомбёжками городе, удалённом на десятки лет от меня. Я делюсь с ней тревогами и страхом моего дня, и тогда они будто отступают. Так вот, сейчас этот люк, из которого я раньше брала воду, засыпало обломками разбомблённого дома и за водой мне приходится ходить на Неву. Каждый такой выход может стать последним, это как заглянуть в глаза смерти. Не подумай, я не хвастаюсь, просто хочу как можно точнее рассказать об этом длинном, бесконечном дне в ледяной зиме 1942 года. Одном дне из бесконечных восемьсот семидесяти двух.
Итак, я одеваюсь для выхода на февральский мороз – мой полушубок крест-накрест перемотан старым маминым пуховым платком, на голове – два шерстяных платка и поверх шапка с крепко завязанными под подбородком шнурками. На ногах – валенки и двойные штаны с начёсом. Всё равно жутко холодно, ветер и мороз пробирают до костей. Беру с собой санки и большое цинковое ведро с крышкой, не забываю про моток бечёвки. Пока идёшь туда с пустым ведром, санки катятся сравнительно легко, хотя ходить мне уже трудновато – теперь я на себе понимаю смысл выражения «ветром качает». Действительно, качает – от слабости, порожденной голодом, нередко всё плывёт перед глазами и очень хочется присесть, отдохнуть. А этого делать нельзя ни в коем случае – иначе уже не встанешь, уснёшь и замёрзнешь насмерть. Всё это мне объяснила мама, когда уже не смогла сама ходить за водой, и приносить её стала я. Поэтому я иду, иногда совсем тихо, иногда чуть быстрее, волоча за собой санки с привязанным к ним ведром.
Отстояв длинную очередь, осторожно выхожу на лёд к полынье и начинаю черпать воду, стараясь наполнить ведро как можно больше, потому что на обратном пути часть воды обязательно выплеснется при движении санок, а я хочу сохранить эту, в прямом смысле слова, «драгоценную влагу» (ещё одно выражение из уроков литературы, скрытый смысл которого я начала понимать лишь сейчас). Рукавицы быстро намокают в ледяной воде и руки немеют – это знак, что пора поворачивать домой. Снимаю рукавицы, дышу на пальцы, пытаясь вернуть им чувствительность, иначе бечёвкой крышку к ведру и само ведро к санкам мне не привязать. Затем медленно бреду к дому. Идти очень тяжело, сил мало, снега много, а санки такие тяжёлые, что кажутся гружёными булыжниками. Но я упрямо иду и мечтаю о том, как мама сейчас заварит чай из смеси сухих трав и хвойных иголок, которые будут пахнуть Новым годом, а затем сварит кашу из плитки столярного клея. Мы будем греть руки о бока горячих чашек и вспоминать папу. Я очень сильно по нему скучаю. Ну, вот