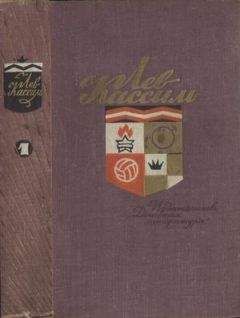Ознакомительная версия.
"ЖУРАВЛИ" И "ЛЕБЕДИ"
После скандала со звонками гимназия временно как будто немного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее. И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы античного искусства, отпирая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру. Строжайше были запрещены прогулки по платформе и Народному саду. Серая, тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки.
ТРИ "Е" И "ТАРАКАНИЙ УС"
Особенно рьяно разводил "журавлей" и "лебедей" учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы "Тараканий Ус", или, "по-латыни", "Тараканиус". Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка: "Длинношеее". Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьи раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса: - Вениамин Витальич! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три "е" кончается? - Есть, - ничего не подозревая, ответил Тараканиус, - есть! Например, вот: длинношеее. Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы "Е". Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова. Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка. - Тэк-с, - говорил он, - урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается. Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица. И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица! В нашем классе были два ученика - Алексеенко и Алеференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал: - Але...ференко! Алеференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре, Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил: - Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич... со словами... И замер от ужаса: к кафедре подходил Алеференко. "Обознался!.. Ой, дурак!.." Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила. - Ну, собственно, я не тебя, а Алеференко вызывал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам. И поставил единицу.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГВАРДИЯ
Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе. Идет! Все за партами разом вскочили. Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал. Класс на ногах. Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик: - Кто!.. там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал... "садитесь"... Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные - сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы - к стенке!!! Прямо! Ну... Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать! Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет - подарок какой-то легендарной помещицы. Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка. Стоящие нерешительно покашливают. - Простудились? - спрашивает заботливо историк. - Дежурный, закройте все форточки: на них дует. Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит: - Ну, гвардия, садитесь... Ровно через минуту всегда звонит звонок.
СРЕДИ БЛУЖДАЮЩИХ ПАРТ
Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили. До третьего класса она звала нас "малявками", от третьего до шестого "голубчиками", дальше - "господами". Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило, - Не подходите ближе! - вопила она. - От вас, пардон, несет. - Пирог с пасленом ел, - учтиво объяснял малявка, - вот и несет от отрыжки. - Ах, мон дье! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены... - Что вы, Матре... тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом... пожалуйста... пы-ыжкытэ ла класс4? От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами - в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили: - Же ву-зем... же-ву-зем... же-ву-зем... Матрона Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил: - Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не серчайте на своих малявок... Гы!.. Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим...
Матрона таяла, зачеркивала. Класс отбивал торжественную дробь на партах. "Камчатка" играла отбой. Парты отступали. Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей "франзели", и мы вместо "же-ву-зем" стали говорить "Новоузенск". Же-ву-зем и Новоузенск очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города. Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так, однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали калоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.
ЦАРСКИЙ ДЕНЬ
С утра в окно виден трепыхающийся, слоенный белым, синим и красным флаг. На календаре - красные буквы: "Тезоименитство его величества..." У церкви Петра и Павла - колокол с трещиной: "Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ти-ли-лик-нем помаленьку... Тилиликнем помаленьку..." К одиннадцати - в гимназию. Молебен. В коридоре парами стоят классы. Жесткие, о серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона божьего бьет гимназистов корешком евангелия по голове, приговаривая: "Стой столбом, балда", в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суетится маленький волосатый регент. Два часа навытяжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно... - Многая лета! Мно-огая ле-ета!.. - Николай Ильич... Боженов рвать хочет.." - Т-с-с... Тихо! Я ему вырву!.. - Многая ле-е-ета-а... - Николай Ильич... он, ей-богу, не сдержит... Он уже тошнит... - Т-с-с! Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе. - Бо-о-же, царя храни! Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет: - Ура! - Уррра-а-а-а-а-а!!!! Коридор сотрясается. Директор еще раз: - Ура! - Уррррааааа!!! Еще раз... Эх, раз, еще раз!.. - Ура-а! - А-а-а-а-а...ыак... - Николай Ильич, Боженов уже блюет на пол... - ...Боже, царя храни... Боженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот.
"НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК"
Уже давно Аннушка сообщила нам, что "наука умеет много гитик". Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много... этого самого... гитик... Что такое "гитик", никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии "гитас" следовало сразу "Гито" - убийца американского президента Гарфильда. А гитика между ними не было. Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту. - От кого ты слыхал это слово? - спросил в затруднении самолюбивый латинист. И второгодники затихли, предвкушая. - От нашей кухарки, - ответил я при шумном ликовании класса. - Иди в угол и стой до звонка, - перебил меня вспыхнувший латинист. - В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок... Болван! Заткни фонтан! И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов. В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый "Некто", этот самый Некто, купивший 253/4 аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.
Ознакомительная версия.