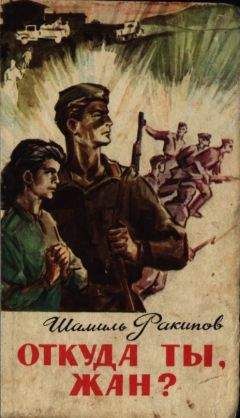Ирина Лукинична оглядела потемневшую от непогоды комнату. Тучи заволокли всё небо. Включить бы свет, но зажигать его рано. Правда, платит она с лампочки. Можно жечь и днём и ночью. Только Ирина Лукинична этого не делает: из капли, говорят, собирается озеро. Может, поэтому и трамваи в городе ходят медленно.
А Николая всё нет и нет. Проголодался, наверное, устал. И так он слабенький. В институте работает кочегаром— легко ли. Сегодня должен бы отдыхать, да вот решил съездить в Устье, проверить плоты. Если о топливе сейчас не позаботишься, не напасёшься тепла сырыми дровами.
Да, темновато. Шить нельзя, иглы не видно. А так, без дела сидеть — не привыкла. Может, свечку зажечь перед иконой?
Ирина Лукинична достала тряпку из печной отдушины, развернула её и взяла коробку спичек. Поколебавшись немного, зажгла свечку. Пламя было маленькое, слабое. Нет, светлей в доме не стало.
— Господи, прости нас, грешных! — перекрестилась она и задула свечку.
Тётка Глафира подняла голову. Глаза её, колючие, замерцали в сумерках, будто рассыпали вокруг злые искорки.
— Зачем погасила?
— Господи, прости… Как я испугалась… Что же, думаю, гореть без пользы. Не хватает…
— Хватит! Для бога терпи. Христос терпел…
Ирина Лукинична, торопливо нащупав дрожащими пальцами коробок, снова зажгла спичку. Но свеча не загорелась — нагар потрещал и потух. Это привело Глафиру в ужас: онемевшая, она смотрела в тёмный угол, морщинистые губы её часто-часто шептали молитву. Наконец, Глафира выпрямилась.
— Бог всё видит, всё знает. Он терпит-терпит, а потом и поднимет карающий меч. Нет в этом суетном мире такого, кто спасся бы от его мести. Что далеко ходить: когда закрывали церковь святой Варвары, ни у кого не поднялась рука навесить замок на двери дома господня. Однако вероотступник нашёлся, осмелился и защёлкнул церковь. А теперь лежит в больнице. Говорят, когда шёл домой, забором его придавило. Весь век свой будет калекой. Вот так! Никому нет спасенья от божьей кары. А он, учитель этот, и мужчин с пути сбивал, и женщин. В школе ребятам красную тряпку на шею вешал. Может, ещё и Ванюшку твоего погаными руками трогал. Чтобы не поддаваться дьяволу, порви этот лоскут на куски, сожги его в печке!
— Других советов твоих не ослушалась, но этот выполнить не могу, — отказалась Ирина Лукинична. — Мальчика не трогай. Он и так сирота, мой сын, и обижать его не стану.
— А грех?
— Раз вместе с миром, простится.
— Моё дело — предупредить. Смотри, как бы не пожалела!
— Ваня ничего плохого не делает. Не курит, водку не пьёт. — Последние слова Ирина Лукинична сказала с намёком, посмотрев на торчавшее из кармана тётки Глафиры горлышко бутылки.
— Узрела, милая, — встревожилась Глафира, проворно спрятав горлышко под фартук. — Только в бутылке совсем другая водица…
Какая — тётка Глафира пояснять не стала. На сегодня у неё другая забота. Вечером один из своих людей должен проникнуть в церковь, чтобы взять из тайника спрятанное отцом Василием божье имущество: серебряные подсвечники, чаши золочёные, кресты с драгоценными камнями. Затем перепрятать их пока у этой вот набожной Лукиничны. Так посоветовал святой отец Василий… Только к месту ли? Сыны вот у Лукиничны без повиновения…
Глафира нашла Ирину Лукиничну лет восемь назад. О себе говорила мало, но хвалилась, что её прабабушка была дворянкой, чуть ли не из царского рода, и жила в хоромах барского поместья Княжицы, у самого Могилёва. Глафира тоже там родилась и поэтому считала Ирину Лукиничну своей землячкой. «Мы с тобой из Белоруссии, — гордилась она, — люди благородные, воспитанные, знаем, как себя вести»…
Но в молодости тётку Глафиру ангелом не считали. Наоборот. Сибирские купцы, приезжавшие на ярмарку, очень долго её помнили. Девицей она была хоть куда — видная, весёлая. Жила в своё удовольствие, умела привечать гостей… Однажды зимой так прокатили её на тройке с бубенцами, что еле отходили потом в больнице. С тех пор хромает на одну ногу, с клюкой ходит. Всё замаливает старые грехи. Но чтобы освободиться от них, мало и десять вероотступников отправить на тот свет. А учитель не только молод и привлекателен собой, он разрушает веру в бога. Раньше, когда в церкви шла служба, кое-что перепадало и Глафире. Теперь дохода нет. И виной тому такие вот антихристы. Если сумеет она с помощью бога провести задуманное дело, многие вернутся к вере. И тогда подобные Ирине сразу подожмут хвосты. Нет, нельзя выпускать её из рук. Не то сегодня повесит красную тряпку на шею сыну, а завтра и сама запишется в коммуну… О чём она думает сейчас, латая своё тряпьё? Не собирается ли уколоть едким словом её, Глафиру, готовую душу отдать за веру? Ещё раз намекнуть ей о бутылке? Иринушка пугливая, но справедлива — и пьющих не любит. А вино, которым угостил отец Василий, — размягчило Глафиру. Поневоле думает хозяйка, что гостья пьяная.
— Лукинична, знаешь, что это за водица? — Тётка Глафира вытащила чёрную бутылку из-под фартука, отвернула железную пробку. — На, понюхай. Это зелье чертополоха! Для антихриста…
Ирина Лукинична посмотрела на Глафиру искоса и, размотав клубок, стала заправлять нитку в иглу.
В дверь неожиданно постучали.
Хозяйка вздрогнула, уронив клубок, и посмотрела на Глафиру: «Кто бы это мог быть?»
— Мир вашему дому!
— Ну и напугала, Пелагея Андреевна! Проходи, соседка, проходи.
В комнату, не торопясь, вошла старуха лет шестидесяти, худая, с длинным носом. На голове выцветшая, от времени шапка, на плечах какой-то мужской пиджак или камзол, обута в старые валенки с широкими голенищами. Старуха помешкала у большой иконы с погасшей свечкой и, спросив Глафиру: «И ты здесь? Ну, как дела?» — присела на стул, предложенный хозяйкой.
— Помаленьку, — ответила тётка Глафира.
— Ну и слава богу.
— Руки-ноги ноют: хлеба насущного нет, Пелагея Андреевна. Стареем. Подошли нам худые денёчки, — жаловалась Глафира, тяжело вздыхая.
— Сколь тебе лет?
— За пятьдесят уже.
— Так ты, голубушка, на десять лет меня моложе! Рановато жалуешься. Правда, галоша на большой дороге быстрей изнашивается.
— Но я-то не галоша…
Ирина Лукинична поспешила перевести разговор на другое, спросила:
— Василий Петрович не вернулся?
— Нет ещё. Сказал, что приедет месяца через полтора, не раньше. Хочет отдохнуть на шахте у сына в своё удовольствие. Жалею, что пустила.
— Зато ушам твоим спокойнее, — заметила тётка Глафира.
— Не говори так, Глафира Аполлоновна. Вот уже сорок лет мы живём, как голуби. Не сдув пыль, и на стул не посадит.
— Так-то оно так, — нехотя согласилась тётка Глафира и замолчала: видно, хотела что-то сказать ещё, да передумала.
— Пелагея Андреевна, простокваша — та, что взяли у тебя вчера, такая вкусная…
Старуха, раскрыв глаза, не сразу взяла в толк и на мгновение растерялась, потом на её морщинистом лице засияла добрая улыбка.
— У Машки и Дашки молоко, Иринушка, жирное. Поэтому я и не продаю своих коз. Да и зашла-то с просьбой: может, и сегодня Ваня попасёт их немного?
— Так ведь нет его дома. С Григорием Павловичем поехал на Суконный рынок.
Пелагея Андреевна пожаловалась:
— Горе с этими козами. Лишний раз даже из дома не выйдешь. — Потрогав ключи на поясе, она поднялась и, прежде чем уходить, спросила: — А картофельную кожуру что не заносишь?.. Батюшки! Да ведь вот она, кожура-то! Зачем на плите её сушишь, Иринушка?
Ирина Лукинична покраснела. Раньше она каждый вечер отдавала кожуру козам. А Пелагея Андреевна за это ей чашку молока или простокваши. Но в последние дни Лукинична придерживала кожуру. Высушив её, хотела истолочь в муку. Почти весь чистый хлеб идёт Николаю — он сплавляет брёвна и расшивает плоты. А себе можно и нечистого, сойдёт. Но как сказать об этом соседке?
Из угла подала голос тётка Глафира.
— Скажи, скажи! Чего стесняешься?
— Да вот хотела её в ступе истолочь…
Пелагея Андреевна не могла скрыть своей радости:
— Очень хорошо, Иринушка! Прошлогодняя солома есть у меня, посыплю твоей мукой и покормлю коз. Как истолчёшь, сразу же принеси… Вот что ещё хотела сказать: придержи своего Ваню. Сорви-голова растёт. На уме только ружьё да сабля. Как бы за дурными людьми не пошёл, боже упаси.
Глафира проворчала:
— Пошёл уже, пошёл! Раз на шее таскает красную тряпку, добра не жди!
— Право, разбаловалась молодёжь. В городе каждый божий день квартиры стали грабить. Но к моим замкам отмычек не подберёшь. И ставни оконные изнутри запираются. Живу пока спокойно, как у Христа за пазухой. Удивляюсь только, почему не переловят всех воришек?
— Переловишь их. Ворон ворону в глаз не клюнет. Раз мужик стал хозяином, какой же может быть порядок в мире?