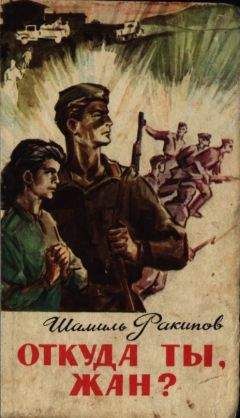— Переловишь их. Ворон ворону в глаз не клюнет. Раз мужик стал хозяином, какой же может быть порядок в мире?
На улице грянул гром. Женщины быстро-быстро перекрестились. Пелагея Андреевна торопливо ушла, прикрыв за собой дверь.
Тётка Глафира вздохнула:
— Ты вот, Лукинична, послушай — не во вред скажу. Вчера на Проломной встретила знакомого. Дела у Советов, говорит он, плохи. Теперь уже долго не протянут.
— Слыхали. Не первый год тростят, что плохи дела у Советов.
— Дослушай до конца, глупая. Сама подумай: у большевиков под ногами земля горит. Недавно в Спасске и в Лаишеве самых что ни на есть главных атаманов перерезали. Вчера ещё богохульника Замалиева на тот свет спихнули. Не только у нас, везде не любят их, антихристов. Дела завариваются, дай бог. Не зря же мальчишек берут в солдаты. Пятнадцатого мая, говорят, возьмут и самых маленьких…
— Кто ещё сказал такую глупость? — удивилась Ирина Лукинична.
— Слово не ходит за тем, кто сказал его. Жива будешь, сама услышишь.
В комнату вбежал худощавый, светловолосый мальчик лет четырнадцати. Лицо продолговатое, глаза большие, синие.
— Мама! — выпалил он, размахивая газетой в руке. — В магазине будут скоро давать белую муку.
— Белую? Нам бы, сынок, и почернее подошла.
— Вот слушай. — Мальчишка начал читать газету — «Казанский центральный рабочий кооператив сверх нормы будет выдавать на каждого члена кооператива по тысяче граммов белой муки».
Глафира усмехнулась:
— Как бы не сглазить: вот разбогатеете!
— Всё же лучше, чем совсем не давать.
— Прочти-ка ещё про то, как мальчишек солдатами сделают, — попросила тётка Глафира, искоса глянув на Ирину Лукиничну.
— Такого тут нету, — сказал мальчик. — А… вот, наверное. Слушайте: «21 апреля состоялся первый слёт военизированных комсомольцев города Казани. Слёт требует, чтобы каждый комсомолец полностью выполнил программу изучения военных знаний. Летний план военного дела подготовить к пятнадцатому мая…»
— Вот, вот! — воскликнула Глафира, ухмыляясь. — А ты не верила.
Ирина Лукинична промолчала.
— Мама, — сказал Ваня, — сегодня в школе каждому велели принести пятьдесят копеек. На постройку дирижаблей.
— Денег нет, сынок…
— Тогда я выйду на субботник. Буду баржу разгружать.
— А в чём пойдёшь? Рубашка вон совсем износилась. Ничего на тебе не держится. Хоть из медвежьей шкуры шей.
— Вот хорошо бы! Зимой и печку топить незачем. — Он взял из рук матери клубок, затем иглу и заправил её ниткой. — Сшей такую шубу, мама. Никогда не порвётся… Лежи себе да рубай картошку в мундире. Пусть ветер и бураны бесятся весь год, а у тебя никакой заботы!
— Если бураны будут целый год, где же картошка вырастет?
Ваня почесал голову.
— Как это где? В парнике! На севере овощи круглый год в парниках выращивают…
— Ладно, ладно, хватит балагурить. Ступай, у дяди Гриши огня попроси. Коля скоро придёт с работы.
— Огня?.. Зачем же брать его у дяди Гриши?
— Спичек мало. На базаре дорогие…
— Сейчас, мама…
Ваня подошёл к железной кровати, приподнял одеяло и выдернул из матраса клочок ваты. Затем встал на сколоченный братом стул, потянулся к оголившимся медным проводам.
— Тебя током ударит! Не тронь!
— Огонь в проводах — нечистый! — проворчала в свою очередь тётка Глафира.
— Сейчас же слезай! — приказала Ирина Лукинична.
— Слезаю…
Вверху что-то затрещало, стены осветились, и в комнате запахло палёной ватой. Мальчик спрыгнул.
— Вот, пожалуйста! Хоть шашлык жарьте, хоть пироги пеките…
— Пироги? Они могут нам только во сне присниться.
— Зимой. Когда красный снег выпадет, — ехидно сказала тётка Глафира.
— Нет, будут наяву, когда командиром стану.
Тётка поморгала красными веками.
Ирина Лукинична, ворча на сына, стала разжигать огонь. Долго возилась она у печки. Наконец, заглянула в другую комнату, где сын рылся в шкафу — что-то искал в нижнем ящике.
— Огонь у меня погас, Ванюша, — сказала мать виновато.
— Разве я не говорила, что ваш огонь безбожный? — обрадовалась Глафира, пристукивая палкой. — Погаснет он, погаснет!
Ваня подошёл к постели.
— Сейчас…
— Не смей! — запретила мать. — Огонь этот, говорят, не от бога. И добра не жди…
— Огонь есть огонь, мама. Всё равно, где взять его.
— Не тронь. Вон какие тучи плывут! Не дай бог, пожар.
Ваня щёлкнул выключателем, но лампочка не загорелась.
— Ток уже выключили.
— Может, сам что напортил? Говорила тебе — к дяде Грише сбегай…
— Почему к дяде Грише? К Харису ближе.
— Делай, что велят. Не заставляй ругаться — и так голова болит. Накличешь беду своим током.
С дядей Гришей Ваня только что вернулся с рынка. Низкорослый, добродушный, Григорий Павлович, несмотря на свои пятьдесят лет, всё время водит дружбу с ребятами: они поят его коня, а он катает их на повозке.
Насажает, что грибов в кошёлку: повернуться негде. Одна слабость есть у дяди Гриши. Смолоду любит он пиво. И в жаркий день может выпить кружек двенадцать. И не пьянеет. Только щёки розовеют, да лысину, знай, вытирает ладонью. А потом, приплясывая, на потеху мальчишкам запевает визгливым голосом:
Хороша я, хороша,
Да плохо одета,
Никто замуж не берёт
Девушку за это…
Пиво дядя Гриша выцеживает из опорожнённых бочек, которые увозит к вечеру, после закрытия киоска. Из трёх-четырёх полведра набирается. Сегодня дядя Гриша перевозил на рынке жмых и, поди, уже навеселе…
Ваня, подбрасывая в руках жестянку, в которой таскали угли от соседей, выбежал на улицу и вернулся домой с огнём.
— Вот вам добрый огонь! — сказал он торжественно. — Полезный. Прямо из печки. Только взял его не у дяди Гриши, он сегодня очень устал, а у Хариса.
— Ну, ты уж всегда по-своему.
— А я не хочу обижать соседа. Чем он хуже дяди Гриши?
— Я не говорила этого.
— Почему же тогда посылаешь мимо их дома?
Ирина Лукинична не знала, что ему ответить.
— Они люди чужой веры, — пришла ей на помощь тётка Глафира. — Только наша христианская вера правая…
— Вера, вера… не надо мне вашей веры, ни правой, ни левой, — сказал Ваня.
— Да унесёт ветер твои слова, сумасшедший! Прости, господи, эту заблудшую овцу.
— Я не овца.
— Ну, заблудший баран, — усмехнулась тётка Глафира.
— И не баран. Я человек.
Во дворе кто-то пронзительно свистнул. Ваня, вздрогнув, прислушался. Лицо его порозовело, а светлые глаза чуть сузились.
— Мама, Харис меня зовёт, — сказал он, забыв о своих пререканиях.
— Опять этот Харис. Зачем он зовёт?
— Играть.
— Хоть бы на рыбалку сходили. Больше пользы. Гляди, на уху поймаете.
— Днём рыба не клюёт. Мы договорились пойти на рассвете.
— Не забудь, Ирина, что сказал тебе муж перед смертью! — заметила тётка Глафира. — Берегись воды! Не утонул бы…
Ваня посмотрел на мать. Она стояла растерянная. Застывшие глаза пристально глядели куда-то в угол.
— Мама! — потянул её Ваня за рукав. — Почему нельзя на рыбалку?.. Что говорил отец?
— Давно это было, сынок, давно. Тебе тогда исполнилось три месяца. Мы бежали от немецких солдат, и отец твой заболел в дороге. Пил воду из ручья. Когда был ещё в памяти, сказал: всё дело в этой воде. Потом начал бредить. Всё той же водой отравленной…
— Расскажи, Лукинична, всё расскажи. О том, что видел муж во сне и как он с чёртом возился, — наставляла тётка Глафира, пристукивая можжевёловой палкой. — Не бойся. Пусть мальчик узнает.
— Зачем же пугать его?
— Расскажи, мама! Я не боюсь.
— Подрасти немного. Иди лучше, сынок, поиграй.
— Нет, я никого не боюсь. Ни чёрта, ни дьявола. Два раза лазил в церковь — и ничего там не видел. Сегодня поднимусь ещё на колокольню — там не покажутся ли…
— А как же ты в церковь залез? — удивилась тётка Глафира. — Её ведь заперли на замок.
— Переднюю дверь. А заднюю заперли только изнутри. Мы пролезли в окно и открыли её. Сегодня вот, когда играли в красных…
— В красных? В святом доме? — всплеснула мать руками. Глаза её расширились, тонкие, высохшие губы начали дрожать.
— Вот! Пожалуйста! — упрекнула Глафира. — Выпустила раз поводья — получай. Бог накажет за такое глумление. Без кары не оставит, как того учителя. — И злорадно добавила — А тому ироду уже не выздороветь…
— Больше туда не ходи, сынок, — попросила мать.
— Надо мне, мама. Сегодня мы выбираем командира. Кто не побоится войти первым — тот и командир.
— Пусть идёт! Пусть он там себе шею свернёт! — сказала тётка Глафира и, набросив чёрную шаль на голову, быстро вышла из дома.