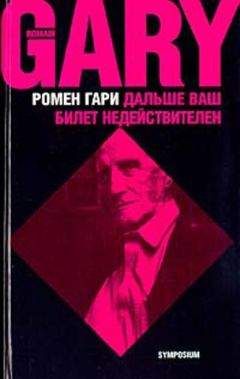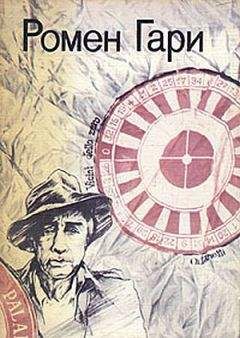– Да, я бы на их месте давно уже плюнул на этих и настрогал бы новых, у себя дома, – хмыкнул Рубен. – Так оно веселее.
– Ты недооцениваешь силу памяти и силу надежды. – Джонас на миг прищурился, будто пытаясь отогнать неприятное воспоминание. Или наоборот, удержать.
– Ага, точно, я ни черта не понимаю, – Рубен покачал головой. – А знаешь, что я тебе на это скажу? Так даже лучше. Для меня и для них тоже. Нет мыслей – нет проблем.
– Я вижу, ты начинаешь цитировать Громкоговоритель. Значит, на что-то он все же годится… – Джонас проследил глазами за сценой, которая разыгрывалась на одном из немногих работающих мониторов. В центре, сжавшись, стоял маленький мальчик, а четверо старших пинали его ногами, как мешок. Джонас прикрыл глаза и откинулся на спинку продавленного кресла. – Неужели никто не вмешается?
– Это против принципов Базы, – заметил Рубен.
– Понимаю. Вы за естественный отбор. – Джонас снова открыл глаза, но изображения на мониторе уже не было.
– Не вы, дружище, а мы. Нравится тебе это или нет, ты теперь тоже в банде. А у банды свои правила.
Плывущие по экрану полосы закрыли неприятную сцену, как занавес.
– Интересно, можно ли это отладить… – пробормотал Джонас.
– Не думаю. Не хватает напряжения. Надо подождать, – ответил Рубен. – И вообще, это же ты у нас компьютерщик. Тебя сюда разве не за этим прислали?
– Пока что я чувствую себя тупым клерком, – сказал Джонас, возвращаясь к своим файлам. Рост, вес, цвет глаз. Фотокарточка отправляется сначала на сканер, потом изображение вставляется в предназначенный для него прямоугольник. Рядом с прямоугольником кто-то по недомыслию создал графу для имени – но она так и оставалась пустой. Разве что заполняющий сам вписывал в нее какое-нибудь слово, первым пришедшее на ум, – желательно покороче.
* * *
За границами Лагеря, вдали от Скорлуп, начинался лес. Одно из Правил Громкоговорителя гласило: «Кто в лес заберется, назад не вернется!»
Рифма, конечно, не ахти, но Правила Громкоговорителя есть Правила Громкоговорителя: им верили. Все громкоговорители орали их по два раза в день, утром и вечером, под музыку, которую дети напевали потом себе под нос, сами того не желая. А этому конкретному Правилу верили еще и потому, что леса – боялись.
Никто не знал, откуда взялся этот страх. Он поднимался откуда-то из глубины, как только первые вечерние тени начинали сгущаться под деревьями на его границе. О лесе ходили легенды. Говорили, что там живет какое-то страшное Чудовище. Что те, кто не послушались Громкоговорителя и вошли в лес, так потом и не вернулись, и некому рассказать, что они там видели и слышали. Как, например, Сгусток Семнадцатый: из него исчезли все до единого, не оставив после себя никаких следов, кроме пятачка вытоптанной земли на краю леса.
Но время от времени кто-то все же пытался перебороть страх и сделать несколько шагов в сторону неизвестности. Потому что в лесу среди страшных вещей было и кое-что хорошее и абсолютно реальное: еда.
Том это знал. Он понял это сразу, как только рискнул впервые углубиться в лес, миновал сначала один куст, потом второй, третий… И, когда глаза его немного привыкли к темноте, он увидел. С ветвей свешивались круглые розоватые плоды, из земли лезли коричневые и широкие, как растопыренные ладони, грибы. Если присмотреться, на тонких ветках и на мягком ковре из палых листьев и мха можно было отыскать орехи. Конечно, были там и те ягоды, что едва не стоили Орле жизни. Но было и много другого, вкусного и замечательного, отчего приятно было не только в животе, но и чуть выше и чуть глубже.
Том вернулся в лес снова. Попробовал плоды – и обнаружил, что на вкус они даже лучше, чем на вид, и вовсе не ядовитые. Он научился различать их даже без названий: те, большие, с гладкой блестящей кожей и хрустящей мякотью, утоляют одновременно голод и жажду. Или вот эти, чуть поменьше, бархатистые на ощупь, сверху зеленоватые, а внутри розовые: когда их кусаешь, сладкий сок брызжет во все стороны. Труднее всего было добраться до мякоти маленьких плодов с твердой скорлупой – пришлось бить ее камнем. Внутри оказалась полужидкая бурда, ради которой не стоило и стараться, – но Тому все равно понравилось: ему казалось, что простой вкус этих плодов, помноженный на отвагу, с которой он до них добирался, превращается в источник энергии внутри него. Он понял, что, когда ест что-то хорошее, ему потом лучше думается.
Еще одна необыкновенная вещь – мысли. Они играли в догонялки у него в голове, мчались друг за дружкой, никогда не оставляли его одного. Том не чувствовал себя одиноко, даже когда занимался вместе со всеми совершенно бессмысленными делами. И теперь он понимал, что ему больше всего не нравилось в остальных: вот эта бессмысленность – отсутствие мыслей; эти ничего не выражающие глаза.
В лесу Том нашел еще кое-что. Такое же замечательное, как еда. Даже лучше, подумалось ему тогда. Что-то такое же важное, как еда, – он убеждался в этом постепенно, раз за разом.
Это был его секрет. Слово секрет – один из Осколков – всплыло вдруг у него в голове, а может, в сердце, сразу же, как только он это нашел. У них в Лагере не было секретов. Но ему достаточно было вспомнить это слово, чтобы понять, что это. Что-то, что хранишь для себя, самое драгоценное и важное. Такое важное, что все сжимается внутри.
В тот раз Том вернулся в Скорлупу с пустыми руками, но с секретом в душе.
* * *
– Странный все-таки сценарий, – сказал Джонас, наблюдая за происходящим в Лагере через стекло.
– Какой сценарий? – откликнулся Рубен, посасывая незажженную трубку. Табак, как и многое другое, был теперь в дефиците.
– Весь этот театр с летним лагерем, выдуманный примитивный мир, как в парках развлечений, хотя тут все страшно и уродливо и никто не развлекается… А мы должны наблюдать за всем этим со стороны, как какие-то экспериментаторы. Всё это… – Джонас раскинул руки, не находя слов, чтобы описать отчаяние, которое хотел выразить. – Я хочу сказать, почему бы просто не устроить здесь школу-интернат? Ну, были бы классы, спальные комнаты, школа, столовая, спортзал, расписание… Когда-то детей, оставшихся без семьи, помещали в такие интернаты.
– Вот! Вот ты сам и сказал: школа. Столовая. Спорт. Для режима нужны твердые руки. Нужен персонал. Люди. Нас двоих не хватит, чтобы заниматься с детьми весь день. Да и чему мы их, собственно, научим? Что потребуется им в том мире, который настанет завтра? Алгебра? Языки? Или умение охотиться, добывать пищу, просто выживать? Нет, пусть уж они разбираются с этим самостоятельно, с самого начала. Мы даем им то, что имеем, что может им помочь. Лекарство.
– Ты называешь это помощью? – Джонас горько рассмеялся. – Послушай, никакого другого мира нет и не будет. Только этот. Здесь и сейчас.
– В этом, боюсь, ты прав, – Рубен вздохнул. – Мне он тоже не особо по душе, но что поделаешь. Другого нет. И вообще, мы должны радоваться…
– …что все еще живы, да, – закончил за него Джонас. – Это я уже слышал. А вот они как, по-твоему, рады? Есть у них, чему радоваться? Хоть чему-то, хоть какой-нибудь мелочи? – сам того не желая, он повысил голос.
Рубен бросил на него быстрый взгляд и покачал головой.
Джонас вновь уставился в экран. Три девочки пытались играть в какую-то игру, водя палочкой в грязи. Невозможно было понять правила этой игры, если они вообще были. Каждая из девочек, по очереди, поднималась и стирала ногами то, что накарябали другие. Чуть дальше мальчик, сидящий на корточках на земле, – уже не малыш, как минимум Девять, – укладывал в ряд камни, от самых больших к маленьким. Долго раздумывал над каждым, вертел его в руках, ощупывал, определяя размер. Игра для детей двух, ну, трех лет. Были и такие, которые ни во что не играли, если, конечно, не считать игрой беготню, валяние в грязи и раздачу тумаков налево-направо.
Свист Громкоговорителя заставил всех замереть на месте – так замирает от испуга стая обезьян. Это был зов к еде: иногда на Базу неожиданно попадали запасы продуктов, и тогда в порыве щедрости часть их раздавалась детям. Точнее, тем из них, кто был сильнее и проворнее остальных, кто жестче бил и работал локтями – ведь на всех еды никогда не хватало. Дети были готовы на все, только бы поменять опостылевшие стручки на что угодно другое. Джонас однажды, из любопытства, попробовал эти стручки – давно, еще в день своего приезда. В прошлой жизни они, наверное, назывались бобами или фасолью. Бледно-зеленые и на вкус никакие – ни сладкие, ни горькие. Так, мокрая растительность.
На экране перед Джонасом мелькали пакеты, брошенные наугад, драки, кровь, текущая из носов, безумный бег тех, кому удалось заполучить пакет и крепко прижать его к груди, погоня, снова драки и снова кровь. Он пожал плечами и повернулся к монитору спиной.
Словно не смотреть было то же самое, что не видеть.