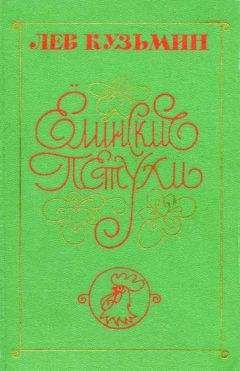— Вот видите, что вы натворили, — уже не по-докторски, а тихо, по-домашнему произнесла Павла Юрьевна. — Остаётся вам ещё заболеть — тогда совсем ужас.
Она заставила мальчиков проглотить по горькой таблетке, сама принесла с кухни две горячие резиновые грелки и две кружки тёплого молока. Молоко она поставила на тумбочку, грелки сунула мальчикам под ноги и, выпроваживая набежавших в спальню малышей, кивнула Мите с Сашей от двери:
— Лечитесь. Обо всём завтра поговорим.
Дверь закрылась, и Саша вдруг состроил неприятную рожицу, сделал вид, что поправляет на носу, как Павла Юрьевна, пенсне, и вслух передразнил:
— Во-от видите, что вы натворили, мальчики…
Он спустил ноги с кровати, хлопнул кулаком по подушке:
— Эх, Митька! Ухожу я отсюда! Больше нет никакого моего терпения.
— Куда? — удивился Митя и тоже сел.
— На флот, Митенька, на флот! К папе на корабль. А здесь пускай Филатыч других вожжами порет, только не меня. Не могу я его больше видеть.
— Ты что? — удивился ещё больше Митя. — Он тебя вовсе и не порол. Он тебя только шлёпнул разок, да и то сгоряча. Меня, знаешь, как мама шлёпала?
— То мама, а то Филатыч. Нет, всё равно, Митька, я убегу.
Саша лёг на кровать, закинул руки за голову, призадумался, потом опять сел и зашептал, косясь на дверь:
— Ведь меня, Митя, теперь задразнят. Егорушка всем разболтает про вожжи.
— Пусть болтает. Егорушка всегда что-нибудь болтает. Он маленький. А за тебя Павла Юрьевна вступится.
— Всту-упится? Дожидайся. Она сама Филатыча боится, всё ходит за ним да приговаривает: «Ах, какой вы умелый! Какой вы старательный! Ах, как это вы всё успеваете!» Станет она из-за меня с Филатычем ругаться… Фигушки!
— Если надо, станет. Она справедливая.
— Справедливая? А когда я сказал, что ты лошадь спас, она что ответила? Ничего! Только таблетку сунула! А вот погоди, когда Филатыч тебя и в самом деле не допустит до лошади, так Павла и пальцем не шевельнёт. Скажет: «Зорькой Филатыч распоряжается, ему и решать!»
Последние слова прозвучали убедительно. Митя испуганно притих. А Саша так раскипятил себя, так раскипятил, что уже и взаправду верил: нет ему другого выхода, как бежать.
Бежать к отцу.
Ему как-то и в голову не приходило, что отец отсюда за сотни километров. В голове у него ясно и почти осязаемо вставали только две картины: вот этот интернат с обидчиком Филатычем — и вот красавец корабль с улыбчивым, добрым отцом. Длинные километры не имели никакого значения. Надо бежать, бежать, бежать — и прибежишь прямо на отцовский корабль, прямо на капитанский мостик.
Не пешком, конечно, бежать. Саша понимал, что бежать — это значит ехать на поезде. Но и поезд ему рисовался уже где-то рядом с великолепным кораблём. Главное было сейчас уйти из интерната, добраться до полустанка Кукушкино. А полустанок всего в двух часах пешей ходьбы — в общем, тоже пустяк! План созрел вполне ясный. Нужен только попутчик, одиночества Саша ни в чём не терпел. Он сполз на самый край постели, протянул через проход руку, дотронулся до Мити:
— Давай вместе, а?
Митя, занятый грустными думами, не понял:
— Что «вместе»?
— На корабль. К папе.
— Нужны мы там! Ерунда всё это.
— Ничего не ерунда! Мы там знаешь кем станем? Юнгами станем. Бескозырки выдадут и ремни с пряжками… А там, глядишь, и винтовки дадут.
Митя насторожился, поднял голову:
— Лучше бы автоматы…
— Что же, можно и автоматы. Отличимся в боях, дадут и автоматы. Да что автоматы? К пулемёту приставят! Как в песне: «Так-так-так! — говорит пулемётчик. — Так-так-так! — говорит пулемёт». Драпанём, Митька, а? Драпанём?
Митя промолчал, но Сашины уговоры начали на него действовать. У Мити у самого на душе скребли кошки. Правда, обиженным он себя не считал, да зато из головы не выходили слова, выкрикнутые Филатычем на берегу возле дрожащей Зорьки: «От неё ведь жеребёнка ждали!» А «ждали» — это совсем не то, что «ждём». «Ждали» — это значит: ждали, да не дождались, и жеребёночка теперь никогда не будет.
И жеребёночка не будет, и сама Зорька, если заболеет, пропадёт, и за всё это придётся отвечать ему, Мите Кукину. Филатыч, слышь, так и говорит: «Отвечать кому-то придётся»… А кому? Ясно, кому. Безо всяких объяснений понятно.
Мите вдруг вспомнился здешний, из районного села, однорукий милиционер Иван Трофимович, который иногда, по пути, завозит в интернат почту и каждый раз по настоятельному приглашению Павлы Юрьевны выпивает на интернатской кухне огромную кружку чая с маленьким кусочком сахара. Сахар в интернате — драгоценность. Крохотный кусочек — весь дневной паёк Павлы Юрьевны, и гостю это известно. Кусочек он берёт деликатно, двумя пальцами, и, топорща рыжие жёсткие усы, откусывает от кусочка чуть-чуть.
Потом он кружку перевёртывает, кладёт на неё так и не съеденный сахар, поднимается, оправляет единственной рукой ремень с кобурой и говорит Павле Юрьевне басом: «Спасибочки! Премного благодарен за угошшение!»
Вот этот милиционер Иван Трофимович и встаёт теперь в Митином воображении. Мите видится он не на кухне, а на высоком интернатском крыльце.
Вокруг крыльца стоят все интернатские мальчики, все девочки, стоят Павла Юрьевна с Филатычем. Вид у всех скорбный. А Иван Трофимович выводит его, Митю, из школы на крыльцо. Кладёт на Митино плечо тяжеленную ладонь и приказывает на всю улицу: «Ну, Митя Кукин, отвечай теперь за свой проступок перед всем честным народом!» И Митя отвечает. Он утирает ладошкой слёзы, кланяется с крыльца на три стороны и трижды говорит: «Прости, народ честной! Прости, народ честной! Прости, честной народ…»
Митя даже головой помотал, чтобы прогнать эту жуткую картину, а потом взял кружку с молоком, разом выпил и, не вытерев молочных усов, с полунадеждой, с полусомнением спросил:
— Да-а, ты-то вот к отцу побежишь, а я к кому?
Саша оживился:
— Так к лейтенанту же Бабушкину! Он же тебе привет прислал! Он тебе и тогда привет прислал, и ещё, может быть, собирается прислать. Но в случае чего отец и двоих примет. Жалко, что ли?
И, чтобы не дать Мите отступить, Саша пустил в ход запретный, но верный приём. Он отвернулся, нарочито громко вздохнул:
— Что ж, конечно… Если трусишь, я тебя не зову.
Этот коварный вздох решил всё. Принять обвинение в трусости Митя не мог. Он подумал, помолчал и тихо произнёс:
— Ладно. Как ты, так и я. Когда бежать-то?
Бежать решили в самую полночь, когда первый раз пропоёт петух Петя Петров.
— Нет лучшего сигнала для побега, чем петушиный крик, — сказал Саша.
А перед тем как интернат уснул, перед самым отбоем, к ним в спальню приходил Филатыч. Они слышали его, но не видели. Ещё до того, как открылась дверь, они закутались в одеяла с головой, притворились крепко спящими. Филатыч потоптался у кроватей, поскрипел половицами, сказал негромко вслух:
— Пущай спят, завтра поговорю! — и ушёл.
— Слыхал? — высунулся наружу Саша. — Слыхал? Завтра опять с ним беседовать придётся.
— Отвечать придётся, — вздохнул Митя и теперь сам сказал: — Скорей бы Петя Петров пропел.
А потом Саша и Митя лежали под одеялами и слушали, как дежурные принесли в спальню и поставили им на тумбочку ужин; потом слушали, как в спальню пришли все остальные мальчики и, стараясь не мешать «больным», стали потихоньку укладываться. Видно, Павла Юрьевна их строго предупредила, а то бы ещё целый час тут раздавались писк, возня. Малыши бы шлёпали друг друга по головам подушками, кисли от смеха, перебегали с кровати на кровать, а потом бы вдруг кто-нибудь сказал: «А вот у нас дома до войны…» — и все бы сразу притихли, но всё равно долго не спали — почти не дыша, не перебивая, слушали и представляла, как хорошо было всём до войны.
Но сегодня все угомонились быстро. Только в ближнем от Мити углу немножко пошептался с соседом Егорушка.
— У меня завтра день рождения. Мне Митя дудочку обещал сделать.
— Какой тебе день рождения! — ответил сердито сосед. — Какая тебе дудочка, когда кругом больные! И Митя болен, и Саша болен, и Зорька в конюшне стоит под тулупом больная.
Егорушка озадаченно помолчал, подумал, потом почти громким голосом сказал:
— Так ведь день-то всё равно будет!
— Будет, будет, — согласился сосед. — Молчи, а то Павла Юрьевна придёт.
Малыши затихли, но Егорушка ещё долго ворочался, видно, переживал: будет у него завтра день рождения или опять не получится?
Митя тоже переживал. В голове у него теперь всё перепуталось: и Зорька, и жеребёночек, и Егорушкина дудочка, и далёкий корабль, Митя устал от этих переживаний и незаметно уснул.
Сколько он проспал — неизвестно. Может, три минуты, а может, три часа. Разбудил его Саша:
— Вставай, Петя Петров кукарекнул.