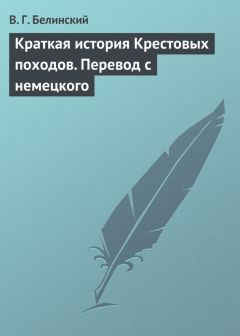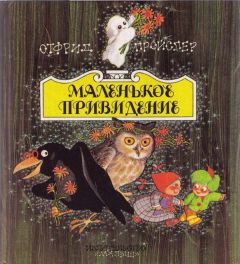им. Они шли по дороге до следующего поворота, где в тени сосен обнаружился деревянный крест в человеческий рост, уже сильно обветшалый, без надписи и украшений.
— Место смерти Боймеля, — сказал Тонда. — Много лет назад человек по имени Боймель окончил здесь жизнь — когда валил лес, как говорят, в точности сегодня уже никто не знает.
— А мы? — спросил Крабат. — Зачем мы здесь?
— Потому что так желает Мастер, — сказал Тонда. — Мы должны — мы все — провести пасхальную ночь под открытым небом, по двое, в месте, где кто-нибудь скончался не своей смертью.
— А что теперь? — спросил Крабат следом.
— Мы разожжём огонь, — сказал Тонда. — Потом мы будет бдеть под крестом, до утренней зари — и с наступлением дня мы поставим себе знак, один другому.
* * *
Они специально не разжигали огонь сильно, чтобы не поднять шум в Шварцкольме. Каждый закутанный в своё одеяло, они сидели под крестом и бдели. То и дело Тонда спрашивал парнишку, не замёрз ли он, или говорил подкинуть в костёр несколько сухих веток, которые они собрали на опушке. Со временем замолкал он всё больше и больше, тогда Крабат попробовал завести разговор сам.
— Эй… Тонда?
— Что такое?
— Это всегда так в Школе Чернокнижия? Мастер зачитывает кусок из Корактора, а потом, так сказать — смотри сам, что у тебя останется в голове…
— Да, — сказал Тонда.
— Не представляю, чтобы так учились колдовать.
— А то, — сказал Тонда.
— А я разозлил Мастера, что был невнимательным?
— Нет, — сказал Тонда.
— Я на будущее хочу собраться и слушать внимательно, чтобы ничего не упускать. Думаешь, справлюсь?
— А то, — сказал Тонда.
Казалось, он не особенно жаждал разговаривать с Крабатом. Прислонившись спиной к кресту, он сидел там прямо, неподвижно, устремив взгляд вдаль, за деревню, на освещённую луной равнину. С этого момента он вообще больше не говорил. Когда Крабат тихо позвал его по имени, он не ответил ничего: молчание мертвеца не могло бы быть глубже, а взгляд — неподвижнее.
Шло время, от поведения Тонды мальчику становилось жутко. Он припомнил, как слышал, что некоторые люди владеют искусством «уходить из себя» — тогда они вылезают из своего тела, как бабочка из куколки, и оставляют его как пустую оболочку, пока их настоящее Я, невидимое, идёт своим путём, скрытыми тропами к скрытой цели. Ушёл ли Тонда из себя? Могло быть так, что он сидел здесь у костра, а в действительности пребывал где-то совсем в другом месте?
«Я должен продолжать бдеть», — решил для себя Крабат.
Он опирался то на правый локоть, то на левый, он следил за тем, чтобы костёр продолжал ровно гореть, он возился с ветками, то и дело ломал их на удобные рукам куски и искусно укладывал маленькими поленницами. Так пробегали часы. Звёзды ползли по небу дальше и дальше, тени домов и деревьев бродили под луной и медленно меняли свои обличия.
Неожиданно жизнь как будто вернулась в Тонду. Наклонившись к Крабату, он обвёл рукой вокруг.
— Колокола… Слышишь?
С Чистого Четверга колокола молчали; теперь, в середине Пасхальной ночи, они вновь зазвучали повсюду. Из соседних сёл их звон доносился до Шварцкольма: хотя приглушённо — лишь смутный шум, гул пчелиного роя — но всё же равнина, и деревня, и поля, и луга были исполнены его до самых дальних холмов.
Почти одновременно с далёким звоном в Шварцкольме раздался девичий голос и запел, торжественно пел он старую пасхальную песню. Крабат знал её, ещё ребёнком пел её в церкви вместе с остальными, но ему казалось, будто он слышал её сегодня в первый раз.
«Христос воскрес, Христос воскрес, Аллилуйя, Аллилуйя!»
Теперь вступили вместе ещё двенадцать или пятнадцать девушек, которые хором допели строфу до конца. Затем первая девушка озвучила следующую строфу — и так они пели дальше, одна поочерёдно со всеми другими, песню за песней.
Крабат помнил такое ещё у себя дома. В пасхальную ночь девушки по обыкновению ходили с песнями вперёд-назад по деревенской улице, с полуночи до утренней зари. Они шли по три или четыре в ряд, тесно друг за другом, и одна из них — это он знал — была канторка, запевщица: она, с самым красивым и чистым голосом, шла в первом ряду и могла запевать — она одна.
Звук колоколов нёсся издалека, девушки пели, а Крабат, сидящий у костра под деревянным крестом, не осмеливался вздохнуть. Он только прислушивался — прислушивался к деревне вдали и был будто околдован.
Тонда подкинул ветку в пламя.
— Я любил одну девушку, — сказал он. — Воршула — так было её имя. Сейчас она уже полгода лежит на кладбище в Зайдевинкеле, я не принёс ей никакого счастья. Ты должен знать, что никто из нас, с мельницы, не приносит девушкам счастья. Я не знаю, почему так, и страху нагонять на тебя тоже не хочу. Но если ты когда-нибудь полюбишь девушку, Крабат, то не выдавай себя. Позаботься о том, чтобы Мастер этого не узнал — и Лышко, который ему всё доносит.
— Мастер и Лышко как-то связаны с тем, что твоя девушка умерла? — спросил Крабат.
— Я не знаю, — сказал Тонда. — Я знаю только, что Воршула была бы сейчас в живых, если бы я сохранил её имя при себе. Я понял это, лишь когда стало слишком поздно. Но ты, Крабат — ты знаешь это теперь, и ты знаешь это своевременно: ни в коем случае, если у тебя когда будет девушка, не выдавай её имя на мельнице. Ни за что в мире не дай его из тебя вытянуть. Никому, слышишь! Ни наяву, ни во сне — тогда ты не