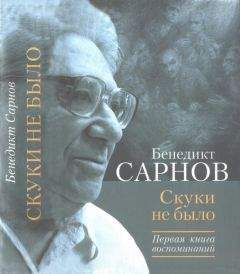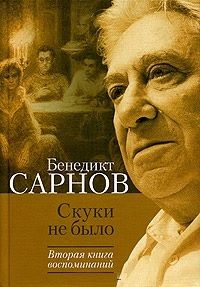Бенедикт Caрнов
Скуки не было
Первая книга воспоминаний
Один восточный мудрец всегда просил в своих молитвах Аллаха, чтобы тот милостиво избавил его от жизни в интересное время. Поскольку мы не мудрецы, Бог нас от этого не избавил, и мы живем в интересное время. Во всяком случае, оно не позволяет нам терять к нему интерес.
Альбер Камю
Всякое прошлое само по себе сюжетно.
Борис Эйхенбаум
В оформлении форзацев использованы репродукции картин работы Бориса Биргера
Портрет одиннадцати (памяти Б. Балтера), 1977
Сидят: Олег Чухонцев, Владимир Войнович, Лев Копелев, Булат Окуджава, Юлий Даниэль, Бенедикт Сарнов, Борис Биргер
Стоят: Фазиль Искандер, Валентин Непомнящий, Эдисон Денисов, Алексей Биргер (сын художника)
Андрей Сахаров с женой Еленой Боннэр, 1974
Я долго не разрешал себе браться за эту книгу.
Кто я такой, чтобы писать мемуары?
Рядом были судьбы друзей. Они воевали. Некоторые из них прошли через сталинские лагеря. Вот им — было что вспомнить! Но даже и они не спешили делиться с читателями воспоминаниями о прожитой жизни.
А потом я подумал: я жил в потрясающее время! Был современником событий, с которыми мало что могло сравниться в мировой истории. И я был не просто свидетелем. Это время мяло меня, ломало, формовало по образу и подобию своему.
Впечатленьями жизнь не бедна, как было сказано в одном стихотворении Ярослава Смелякова. И хотя мне не досталось пережить и сотой доли того, что пришлось испытать автору этого стихотворения, моя жизнь тоже была не бедна впечатлениями. Ведь все то, о чем сказал другой поэт, другой мой современник — Борис Слуцкий — впрямую касалось и меня тоже. Я имею в виду не самое знаменитое его стихотворение, в котором он говорит, что всего с лихвой было в его жизни: приходилось недосыпать, недоедать, испытывать нужду в самом необходимом. «Но скуки не было». Эта строчка рефреном замыкает каждое четверостишие, из которых состоит стихотворение, каждую его строфу:
Газет холодное вранье,
статей напыщенный обман —
и то читали, как роман.
Но скуки не было.
Ведь все это, подумал я, было и со мной тоже. Не «при мне», а именно со мной.
Немногими этими строчками поэт сказал не только про свою, но и про мою, про нашу общую жизнь.
Вот поэтому-то я и решился все-таки сесть за эту книгу. И поэтому решил назвать ее так, как назвал.
С самого раннего детства, возможно, лет с пяти-шести, я знал, что, когда вырасту, обязательно стану писателем.
Джордж Оруэлл
1
Когда мне стукнуло десять лет, кто-то подарил мне на день рождения необычайной красоты общую тетрадь — «в линеечку». Гладкая, глянцевая бумага, кожаный переплет. Конечно, не из настоящей кожи. Наверное, из какого-нибудь заменителя — но тогда я этих тонкостей не понимал и искренне считал этот переплет кожаным.
Я в эту тетрадь просто влюбился. Спрятал ее в самый дальний ящик. Иногда вынимал, любовался, любовно поглаживал переплет — и снова прятал. Даже запах ее был мне мил.
Надо сказать, что я с детства питал какую-то странную, необъяснимую любовь к тетрадям, блокнотам, записным книжкам — вообще к бумаге. Радовался, когда — случалось — в школе нам выдавали тетрадки (купить их тогда было не так-то просто, поэтому нам их выдавали — по счету) с гладенькой, глянцевитой бумагой. И от души ненавидел обычные наши тетради, в которых бумага была серая, шероховатая, с какими-то даже мелкими щепочками и другими грязноватыми вкраплениями в ее бумажную ткань. (Это осталось у меня на всю жизнь. Я не коллекционер, даже не библиофил: в книге превыше всего ценю текст, а не то, как она издана. Но любимую книгу, напечатанную на плохой бумаге, до сих пор воспринимаю как личное оскорбление.)
В сравнении с теми будничными нашими школьными тетрадками подаренная мне «кожаная» толстая тетрадь казалась мне — да и на самом деле была — совершенно немыслимой роскошью. И я долго не мог решить, что мне с нею делать. Осквернить ее глянцевые страницы своими каракулями казалось мне чуть ли не святотатством. Так и хранилась она у меня довольно долго — девственно чистая, неприкасаемая.
Но в один прекрасный день я вдруг решился. Открыл ее и начал писать. Разумеется, роман. Ни больше ни меньше.
О чем был этот роман, я уже, признаться, даже и не помню. Что-то про пиратов. Какая-то дикая смесь из «Острова сокровищ» и приключений жюльверновского Айртона.
Роман я, конечно, не дописал, а оскверненная, безнадежно испорченная тетрадь потеряла в моих глазах всю свою ценность и вскоре затерялась.
2
Но желание писать не пропало.
Его не убила даже начавшаяся спустя три года война.
Сочинять романы я, правда, больше уже не пытался. Если не считать того, что в 42-м, в эвакуации, вдвоем с моим тогдашним дружком Глебом Селяниным мы вдруг решили продолжить «Евгения Онегина». Было нам тогда уже лет по пятнадцать. Оба мы, как водится в этом возрасте, писали стихи. И обоих нас заворожила онегинская строфа. Не столько даже сама строфа, сколько вдруг обнаружившаяся у нас обоих способность сравнительно легко воспроизводить ее.
Перенеся действующих лиц пушкинского романа в наше время, ничуть не заботясь о сколько-нибудь логичном развитии сюжета, а только упиваясь этим нехитрым своим уменьем, мы сочиняли в день по десять-пятнадцать строф, стремясь лишь к одной единственной цели: чтобы по количеству строк наш «Онегин» не уступал пушкинскому. Двигал нашими перьями, таким образом, не потный вал вдохновения, а чисто спортивный азарт.
Без особого труда сочинив восемь (точь-в-точь как у Пушкина) глав, мы к этой своей затее тотчас же охладели. И увлеклись чем-то другим.
Что там мы нагородили в этих восьми главах — хоть убей, не помню. Запомнилось почему-то только, что, умертвив Ольгиного жениха — улана, мы выдали ее за милиционера. Как только я вспомнил это, так сразу же из каких-то самых глубинных провалов памяти вдруг выскочило начало строфы, в которой мы представляли этого нового героя читателю:
Его зовут Андрей Коляскин.
Он пунктуален, как часы.
Из серой милицейской каски
На вас глядят его усы.
Только эти четыре строчки и сохранились в моей памяти из всего нашего «романа в стихах». Но и по ним видно, что сочиняли мы его, как говорится, без всякого умственного напряжения. Любая глупость сразу зарифмовывалась, и чем эта глупость была глупее, тем легче давалось нам уже привычное чередование рифм — перекрестных, парных, кольцевых — в той строгой последовательности, которую нам диктовала пленившая нас онегинская строфа.
Для Глеба спортивный угар этих месяцев прошел бесследно. (После школы он поступил в театральное училище и стал актером.) А я, кажется, именно тогда впервые понял, кем хотел бы стать в будущей, взрослой своей жизни.
Втайне от Глеба я стал сочинять какие-то стихи (все той же онегинской строфой) уже не в шутку, а всерьез. Сочинял я их старательно, никуда не спеша, поэтому были они не в пример мастеровитее тех, что мы сочиняли вдвоем с Глебом. Но и не в пример скучнее. Те, что мы сочиняли вместе в ежедневных приступах нашего азартного глупого веселья, при всей своей глупости были живыми. А эти — мертвыми.
Тут проявился едва ли не главный закон художественного творчества, блестяще сформулированный моим учителем Виктором Борисовичем Шкловским. Однажды, разговаривая со мной на эти темы, он кинул со своей «улыбкой Будды» — этак небрежно, словно какую-нибудь банальность:
— Главное — не надо стараться!
И я сразу вспомнил те давние, детские мои старания.
И еще мне вспомнилось, как с тем же Глебом мы, подражая нашему любимому Маяковскому, стали сочинять — наперегонки — всякие рифмованные рекламы. До знаменитого шедевра Владимира Владимировича — «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старости лет!» — нам, конечно, было не подняться. А кроме того: ну какие товары могли мы рекламировать в то голодное военное время? Разве только яичный порошок…
Но мы вышли из положения: сочиняли рекламы кинофильмов.
Я пыхтел, рубил строки под Маяковского, старательно изобретал сложные, каламбурные рифмы. Но — хоть убей! — не могу припомнить ни одного тогдашнего моего шедевра. А Глеб — посмеиваясь, озорничая, как бы даже и не всерьез, в каком-то внезапном приступе веселого вдохновения — вдруг выдавал:
Кто не плакал в платки полосатые,
Посмотрев «Без вины виноватые»!
И мы оба закатывались в счастливом смехе.