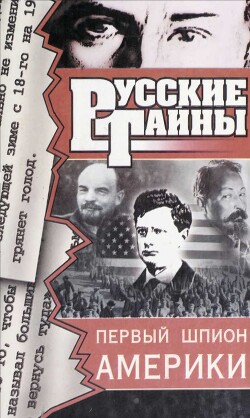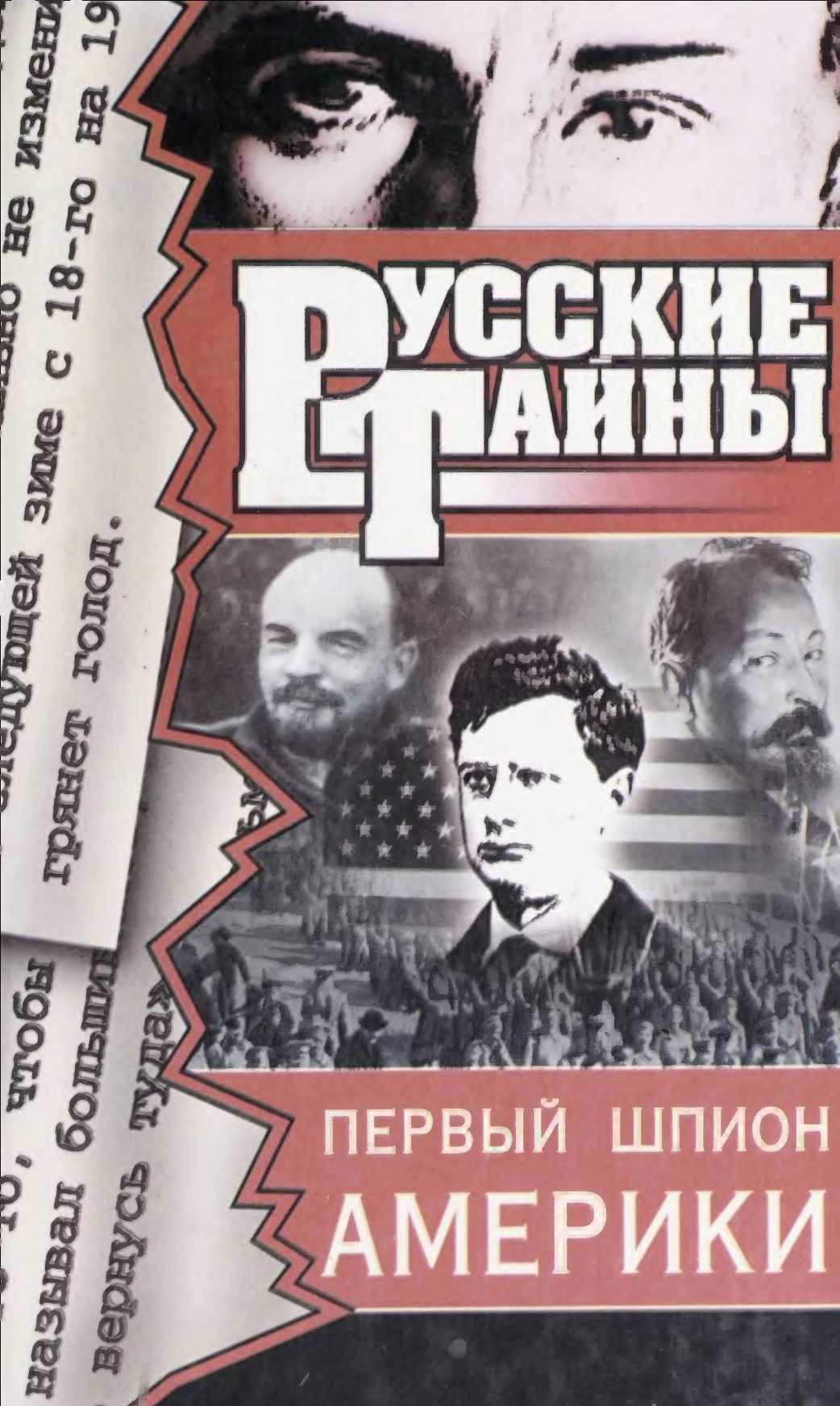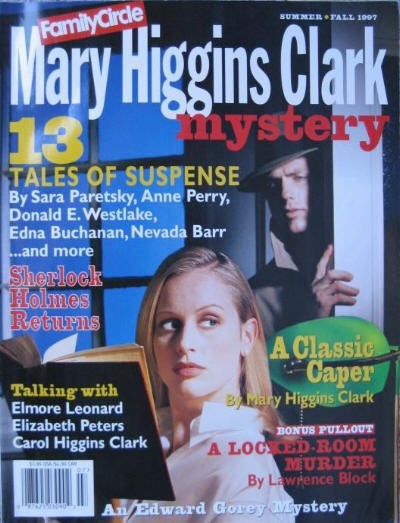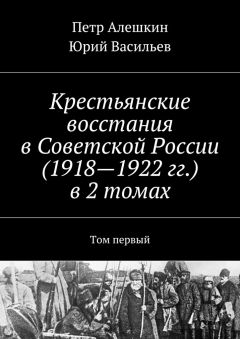Романов В.И.
Первый шпион Америки
Пролог
3 декабря 1918 года Ксенофона Дмитриевича Каламатиано и еще восьмерых обвиняемых в заговоре против Советской власти снова привезли в помещение Революционного трибунала. Комната, где проходили судебные заседания, была небольшая, с двумя зарешеченными окнами, выходящими в тихий садик. Устроители, чтобы создать видимость настоящего суда, места для подсудимых отгородили деревянным барьером, а для зрителей оставили скамейки, в спешке забыв о лепнине на потолке, изображающей радостных амуров, дующих в свои дудки. Видимо, при господах в этой комнате была спальня, и амуры так живо напоминали об этом.
Теперь же спертый прокуренный воздух, смешанный с запахами потных портянок и сапожной ваксы, шибал в нос каждому, кто входил в зал заседаний. Со вчерашнего дня пол в комнате помыть не успели, и засохшие комья грязи лежали на исполосованном солдатскими сапогами и прикладами винтовок некогда дорогом паркете старого дворянского особняка. Охрана завела подсудимых за деревянный барьер и встала по краям.
Они расселись, как и в первый день, еще 28 ноября, когда только начались слушания дела. Каламатиано с молодым Петей Лесневским и сорокапятилетним бывшим полковником конной артиллерии Александром Фрайдом — на первый ряд, за ними уже Маша, сестра Сашки, чех Вацлав Пшеничка и другие. Фрайд знал, что арестована и Анна Михайловна, его с Машей мать, но почему-то в рассмотрении этого дела ее имя не фигурировало. Ес схватили, когда она попыталась спрятать в туалете сверток с деньгами, принесенный Рейли. «Все-таки он негодяй! — подумал Ксенофон Дмитриевич. — Ведь прекрасно знал, что не нужно устраивать из Сашкиной квартиры конспиративную, но Сидней, пользуясь добротой хозяев, и их вовлек в свои авантюры, не говоря уже о Маше…» Она простыла в камере и теперь сидела с платком в руках: нос распух от чиханий и мокроты, глаза слезились. Надо же до такой степени вбить в голову восемнадцатилетней девчонке эти рассуждения о скорой свободе, о святой борьбе против большевиков, что Маша возомнила себя чуть ли не Жанной д'Арк. После допроса в ВЧК Петерс, который вместе с Кингисеппом расследовал это дело, даже собирался отпустить ее, но она, услышав, что ее освобождают, возмутилась, заявила, что была правой рукой Сиднея Рейли и все решения они принимали сообща и что именно она настояла на том, что если им не удастся захватить Кремль, то Ленина надо будет обязательно застрелить. Петерс поначалу не хотел записывать этот бред в протокол, но Маша настояла и теперь проходила как одна из организаторов антибольшевистского международного заговора.
В качестве зрителей обычно приглашали солдат из охраны. Они заполняли до отказа небольшой зальчик, шумно обсуждали ход заседаний, иногда аплодировали, дымили махрой, время от времени бросая суровые выкрики типа: «Вздернуть бы его, гада!» или «Самого бы его в окопы вшей кормить!». Реплики относились к Каламатиано, который на вопрос судьи: «Хотели ли вы втянуть Советскую республику в мировую бойню на стороне Антанты?» — ответил утвердительно. Солдаты, еще недавно мерзшие в окопах на первой мировой, очень болезненно переживали вопрос о продолжении войны и остро на это отреагировали. Председательствующий Ревтрибунала Кар клин еле утихомирил зал. Помимо солдат в зале сидели два старика и несколько старух. Старики плохо слышали и постоянно переспрашивали старух. Для них суд был наподобие театрального спектакля, и они внимательно слушали вопросы главного обвинителя, ответы подсудимых, живо реагируя, громко вздыхая или кряхтя, подчас издавая странные восклицания вроде «Эхма!» или «Эколь!».
Когда подсудимых ввели в зал, публика уже сидела и приветствовала их радостными выкриками:
— Спета песенка контриков!
— Пожировали и будет!
— Сейчас всем припечатают по третье число! — намекая, что сегодня должны зачитать наконец-то приговор.
Последний голос прозвучал звонко и раскатисто, и Каламатиано захотелось увидеть этого молодого солдатика. Он оглядел зал и вдруг оцепенел от неожиданности: на последнем ряду в заячьей шубке сидела Аглая Николаевна Ясеневская. Ксенофон Дмитриевич даже приподнялся, чтобы получше ее разглядеть, потому что ее, худенькую, изящную, то и дело перекрывали широкие солдатские спины, и наконец увидел ее смущенное лицо и блестевшие от слез глаза, которые с болью и нежностью смотрели на него. Каламатиано не сразу дотронулся до Пети Ясеневского, ее сына, молча указав ему на зал. И Петя тоже приподнялся, чтобы увидеть мать.
— Сидеть! — замахнувшись прикладом, рявкнул охранник, и они оба снова сели.
Аглая Николаевна, понимая, что ее не видно, неожиданно поднялась и осталась стоять все заседание, чтобы и Ксенофон, и Петя могли встречаться с ней взглядами. Но, не выдержав и первых секунд такого тайного переглядывания с двумя близкими ей людьми, она молча расплакалась, вытащила платок и сжала им рот, чтобы не прорвались рыдания. Смахнул невольную слезу и Каламатиано. Солдаты в зале мгновенно это заметили.
— Поздно, сволочь, слезы лить! — выкрикнул один из солдат. — Трибунал не разжалобишь!
— Пусть поплачет перед смертью! — засмеялся другой.
Ксенофон Дмитриевич больше всего боялся, как бы насмешники не обнаружили Аглаю Николаевну и не стали бы над нею потешаться. Поэтому он долго старался не смотреть на нее. Аглая Николаевна сквозь слезы уже улыбалась ему, а Петя еле заметно помахал ей рукой.
В зал из тайной комнаты, где совещались члены трибунала, определяя наказание каждому из подсудимых, вышли Петерс и обвинитель Крыленко и сели на первый ряд. Они оба уже знали приговор, и Крыленко выглядел веселым, даже задорным. Человек в кожаной тужурке, сидевший позади Крыленко, что-то сказал ему, и главный обвинитель заулыбался, посмотрел на Петерса, который выглядел хмурым и усталым. В своей обвинительной речи Крыленко поставил в вину Каламатиано даже то, что он наполовину русский и, «воспользовавшись этим, маскируясь под русского человека, этот глубоко враждебный нам американский агент капитализма сумел втереться в доверие к некоторым нашим гражданам, опутать их своей контрреволюционной ложью, заманить тушенкой, деньгами, мечтами о заграничном рае и сделать их предателями и изменниками. Тридцать человек стали агентами Каламатиано! Глубоко законспирированная агентурная сеть поставляла враждебной нам Антанте военные секреты, готовила почву для удушения нашей молодой республики. С одобрения Каламатиано готовилось и убийство нашего вождя товарища Ленина. Не удалось! Вражеские пули только ранили горячо любимого нами товарища Ленина, но он жив назло всем врагам и продолжает трудиться во имя будущего нашей республики!». Последние слова Крыленко почти выкрикнул в зал, и солдаты, дымившие махрой, радостно зааплодировали. Голос у обвинителя был звонкий и сильный, можно сказать, даже проникновенный, и старухи, слушая страшный рассказ о злодеяниях американского и других шпионов, плакали и шмыгали носом, а старики хмурили брови и сурово сжимали кулаки.
Но сейчас Крыленко радостно и увлеченно о чем-то рассказывал Петерсу. Тот нехотя кивал, а потом, вскинув голову, почему-то с обидой посмотрел на Каламатиано, и сухой колючий взгляд заместителя Дзержинского не сулил ничего хорошего. Петерс обернулся, увидел Аглаю Николаевну и снова взглянул на Каламатиано, на этот раз по его губам скользнула почти незаметная улыбка, как бы говорящая’ ну что, сделал я тебе подарок?
Через минуту из комнаты для совещании вышли члены Революционного трибунала, семь человек, и шумно уселись за длинный стол, покрытый кумачом.
Председатель, не садясь, взял бумагу и суровым голосом произнес:
— Для оглашения приговора прошу всех встать! Все поднялись.
— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Революционный трибунал при Всероссийском ЦИК Советов в заседании своем от 3 декабря 1918 года, заслушав и рассмотрев дело Ксенофона Дмитриевича Каламатиано, Фрайда Александра и Фрайд Марии, Лесневского, Пшенички…