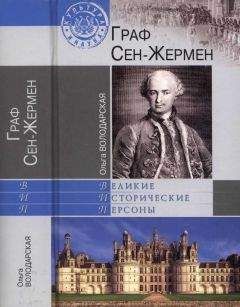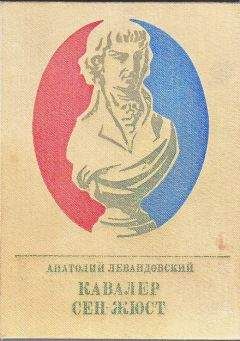Вести из Парижа доходили до провинции не регулярно. Максимилиан с интересом следил за ними. Он видел, что в стране назревают серьезные события. Учитель, по-видимому, был прав.
Не сводя концы с концами, правительство явно начинало метаться. Не помогали никакие ухищрения, острый финансовый кризис поразил абсолютную монархию.
На уплату одних процентов по государственным долгам уходила десятая часть чистого дохода со всей земли во Франции. Один из преемников Тюрго, женевский банкир Неккер, стараясь образумить двор и монарха во имя собственного их спасения, впервые обнародовал отчет о состоянии финансов. Отчет был сфальсифицирован; действительное отчаянное состояние казны умышленно скрыли от народа. И тем не менее даже в таком виде отчет произвел потрясающее впечатление, ибо, впервые приоткрыв чуть-чуть завесу, намекнул обществу на характер и масштабы хищений знати. После этого, разумеется, Неккер тотчас же получил отставку.
Предреволюционный кризис расширялся. Он охватывал страну, протягивая свои щупальца во все сферы общественной жизни. Франция вступала в период революционной ситуации…
Мирному течению жизни Максимилиана Робеспьера было суждено оборваться на грани 1788–1789 годов. Кончалась пора академических сочинений, литературных премий, галантных писем и дружеских бесед. Его страна была накануне страшных потрясений — потрясений, которые должны были поломать и коренным образом изменить судьбу скромного аррасского адвоката, так же как и миллионы других человеческих судеб. Интуитивно он предчувствовал неизбежность этих потрясений и радостно устремлялся им навстречу.
Это произошло в Париже примерно за год до начала революции.
Один академик давал торжественный обед для избранных аристократов и почетных деятелей официальной науки. Общество собралось блестящее. В огромном зале вокруг нескольких столов уютно расположились вельможи, согласные моды ради пококетничать с философией, и философы, многие из которых с легкостью отказались бы от своих убеждений, дабы стать вельможами. Обед удался на славу. Гости вскоре немного захмелели и достигли того блаженного состояния, когда все кажется легким и простым, соседи — милыми и добродушными, женщины — очаровательными, а будущее — безоблачным. Непринужденно лилась общая беседа, подобно игристому вину обдавая участников трапезы брызгами веселья и остроумия. В центре внимания, естественно, были вопросы современности. Изящно говорили об успехах человеческого ума, о близком царстве освобожденного разума, провозглашали тосты за слияние богатства и науки, интеллекта и власти.
Лишь один человек упорно молчал среди оживленного разговора, как бы полностью выключив себя из общего настроения. Его потухшие глаза были полузакрыты, губы плотно сжаты, старое морщинистое лицо перекосила гримаса затаенной скорби. Это был писатель-мистик, семидесятилетний Жак Казот, случайно попавший на званый обед.
Сначала никто не обращал на него внимания, но затем, когда упорство его молчания стало слишком уж подчеркнуто-нарочитым и неприятным, кто-то счел должным осведомиться о причине странного поведения угрюмого старика. Казот вздрогнул, провел дрожащей рукой по лицу, как бы смахивая пелену грусти, и, помолчав несколько секунд, заговорил тихим, усталым голосом. Он сказал, что никак не может разделять общего благодушия, ибо возможно ли предаваться шуткам и каламбурам на краю пропасти? Он смотрит в недалекое будущее и видит страшные потрясения, огненный смерч, который сожжет, испепелит все то, что ныне блистает в ореоле славы и богатства. Он видит опустевшие дворцы и горящие усадьбы, перед ним вереницей проносятся искаженные болью лица, знакомые лица…
Казот вдруг широко раскрыл глаза и впился сухими пальцами в поручни кресла.
— Да, они очень хорошо знакомы, эти лица, ибо многие из них принадлежат находящимся здесь, в зале…
Подвыпившие сибариты переглянулись, ожидая забавного разговора. Сидевший рядом с Казотом известный философ маркиз Кондорсе поставил на стол недопитый бокал, обнял старика за плечи и, улыбаясь, спросил, кого же, собственно, имеет в виду новоявленный пророк? Казот пристально посмотрел на философа.
— Вас, милый маркиз, вас в первую очередь… Я вижу, что вы отравитесь, дабы избегнуть смерти от руки палача.
Кондорсе, продолжая улыбаться, подмигнул окружившим их гостям. Раздался дружный хохот.
А бледные узкие губы старого мистика продолжали шевелиться. Он предсказал астроному Байи, юристу Малербу и ряду других присутствующих смерть на эшафоте. По мере того как он говорил, любопытство разгоралось; смолкли разговоры за соседними столами, и все лица обратились в сторону группы у кресла Казота. Несколько знатных дам, встав со своих мест, чтобы лучше видеть и слышать, устремились туда же.
— Но господин прорицатель, надеюсь, пощадит хотя бы наш слабый пол, не правда ли? — смеясь, воскликнула герцогиня Граммон.
— Ваш пол?.. Вы, сударыня, и много других дам вместе с вами, будете отвезены в телеге на площадь казни, со связанными руками.
Казот поднялся. Его глаза в упор смотрели на герцогиню; его убеленная сединами голова, его физиономия патриарха придавали словам печальную важность. Гостям становилось несколько не по себе.
— Вы увидите, — заметила герцогиня с явно принужденной веселостью, — он не позволит мне даже исповедаться перед казнью.
— Нет, сударыня. Последний осужденный, которому сделают это снисхождение, будет… — Казот запнулся на мгновенье, — это будет… король Франции.
Охваченные неопределенным волнением, все гости встали из-за стола. Как-то вдруг сразу улетучилось легкое опьянение, исчезла веселость. Тщетны были попытки хозяина дома как-либо замять досадный инцидент; вечер был испорчен. И в то время, как угрюмый старик, отвесив церемонные поклоны дамам и кавалерам, спокойно вышел из зала, над обществом, еще несколько минут назад таким веселым и беззаботным, нависла роковая тяжесть молчания…
…Точно ли так произошло все в этот вечер 1788 года, как здесь рассказано? Поручиться за достоверность в деталях нельзя, ибо описан был этот случай одним из его очевидцев после Великой революции, когда Байи, Малерб и герцогиня Граммон давно уже погибли под ножом гильотины, когда все знали, что маркиз Кондорсе отравился, спасаясь от карающего меча революционного закона, когда, наконец, не менее хорошо было известно, что Людовик XVI последним пользовался перед казнью услугами священника, не присягнувшего конституции. Разумеется, нет ничего удивительного, если свидетель «пророчества Казота» и вложил в уста этого мистика, также погибшего в бурные дни революции, некоторые чересчур уж точно сбывшиеся в дальнейшем предсказания. Но, с другой стороны, не надо было обладать сверхъестественным даром прорицания, чтобы накануне революции предвидеть ее наступление, гибель короля и ряда деятелей, связанных со старым миром: все это казалось вполне очевидным для многих мыслителей, живших задолго до описанной сцены.