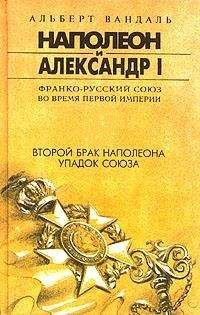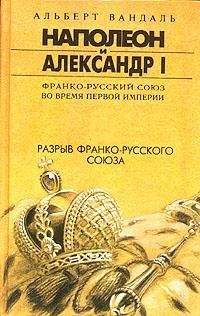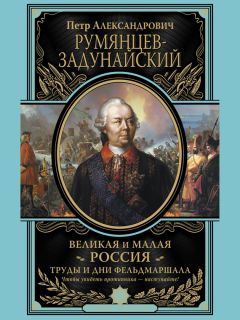Никогда общественное мнение не допускало, чтобы государи могли покидать свою страну только для соблюдения приличий или ради удовольствия; оно всегда приписывает их путешествию сокровенные побуждения и выводит из них бесконечные следствия. И в настоящем случае думали, что, если Фридрих-Вильгельм и королева отправились в Петербург, то делалось это ради того, чтобы заинтересовать и растрогать царя своей судьбой и снова привлечь его к их делу, т. е. к делу королей, которых скрутил и угнетал Наполеон. В этом посещении, которое совпадало с отъездом Шварценберга в русскую столицу, каждый хотел видеть новое, настойчивое усилие Германии отвлечь Александра от французского союза. Сколько ни протестовали наши агенты против такого толкования, сколько ни повторяли, согласно полученному приказанию, “что в путешествии прусского короля не было ничего такого, что могло бы быть неприятным Его Величеству, что оно не могло произвести на него дурного впечатления”[25] их словам приписывали только сомнительную ценность официального опровержения. В Петербурге наши враги радовались этому путешествию, наши немногие друзья были встревожены; Коленкур был не в духе и готовился быть настороже.
Его опасения еще более увеличивало то обстоятельство, что в самое недавнее время Александр дал доказательство возобновившегося участия к Пруссии и горячо, с чувством почти негодования, принялся защищать ее. Дело в том, что в Эрфурте Наполеон в угоду своему союзнику, согласился уменьшить на двадцать миллионов военное вознаграждение с Пруссии. Этой уступкой имелось в виду сделать возможным подготовлявшееся соглашение между дворами Парижа и Кенигсберга; но Наполеон, никогда не относившийся к Пруссии доброжелательно, испортил благое начинание, обставив его некоторыми ограничениями и требованиями. Он потребовал, чтобы побежденный платил проценты с сумм, остающихся в долгу, и принял на себя некоторые издержки, вызванные занятием трех крепостей. Это были непредвиденные расходы, которые почти уничтожали льготы, данные Пруссии. Франция в иной форме брала обратно часть того, что уступила так великодушно. В этих жестоких притеснениях Александр видел недостаток внимания к самому себе, почти недоверие. Он пожаловался на это Коленкуру тоном упрека и горечи, который обыкновенно не был ему свойствен. “Император мне обещал, сказал он; передайте ему, что я взываю к его слову... Я надеюсь, что, из дружбы ко мне, это дело будет восстановлено в том смысле и духе, как это было условлено в Эрфурте. Я положительно настаиваю на этом. Я верно блюду мои обязательства, и император Наполеон должен держать свои. Не следует, ради того, чтобы вырвать несколько грошей у людей, и так уже более чем разоренных, портить воспоминания, которые остались у меня от нашего свидания... Я был посредником в добром деле; я требую исполнения данного мне слова”.[26] Он говорил, что, когда император удовлетворит его просьбу, он перестанет интересоваться Пруссией и думать о ней. Но очевидно, что его горячая речь говорила о стойком расположении к государству, печальная судьба которого удручала его совесть.
Но не было ли в распоряжении у разоренной, утратившей значительную часть своих владений Пруссии средства воздействия, иной раз более могущественного, чем блеск военной силы? Не произведут ли в Петербурге свое обычное действие красота и обаятельная прелесть королевы Луизы? Когда-то Александр не избег ее чар; можно было думать, что теперь он тем более мог попасть под ее обаяние, что, сердце его как будто было свободно. С некоторого времени произошло охлаждение в его отношениях с женщиной, которую он любил с давнего времени и которую Савари и Коленкур называли в своих депешах по-военному: “красавица Нарышкина”. Она проводила осень вне Петербурга, в Курляндии, и не прошло незамеченным, что, на обратном пути из Эрфурта, Александр не свернул с дороги, чтобы навестить ее. Отсутствие фаворитки как будто сблизило императора с императрицей и вернуло последней “все ее права”.[27] Друзья царствующей императрицы разблаговестили о возобновлении супружеского сближения, и слух об этом дошел до Наполеона. Проявляя крайнюю заботливость о личном счастье и удовольствиях своего союзника, император не имел обыкновения наставлять его в добродетели, и не пренебрегал случаем, когда это требовалось, поспособствовать его развлечениям.[28] Тем не менее, он счел долгом в форме намека поздравить Александра с событием, которое могло обеспечить ему прямого наследника. В своем письме от 14 января он поместил такую фразу: “Позволите ли мне, Ваше Величество, пожелать вам доброго здоровья и красивого маленького самодержца всея Руси?”[29]. Однако, каждый, кто наблюдал царскую семью вблизи, легко мог убедиться, что это примирение имело только официальный характер, ради соблюдения приличия, что союз сердец не мог восстановиться, и что долго длившаяся между супругами отчужденность разъединила и охладила их навсегда. Императрица упорствовала в горделивом нежелании сделать что-либо для сближения и пренебрегала малейшим усилием удержать за собой своего супруга; говорили даже, что она смотрела на предстоящий приезд прусской королевы не только без ревности, но даже с некоторым удовольствием. Жозеф де-Местр, который в качестве тонкого наблюдателя по своему обыкновению, следил за тем, что происходило на петербургской сцене, объяснял это удивительное отречение политикой. “Несравненная женщина, – говорил он, – приняв свое решение относительно известного вопроса, видит в событии, о котором идет речь, только средство отвлечь государя от партии, которую она проклинает”.[30] Таким образом, все содействовало тому, чтобы Александр попался в заманчивые сети обаятельной королевы, задавшейся целью тронуть его своими слезами. Не думала ли королева Луиза обрести подле него тот успех, которого не добилась у Наполеона, и не рассчитывала ли получить в Петербурге реванш за Тильзит?
Король и королева с принцами Вильгельмом и Августом прусскими прибыли в Петербург 7 января. Въезд был торжественный; весь гарнизон, около сорока пяти тысяч, был под ружьем и стоял шпалерами. Несмотря на сильный мороз, император Александр пожелал сопровождать карету королевы верхом, вместе с королем и принцами. В Зимнем дворце прусские высочайшие особы были приняты обеими императрицами с изысканной любезностью. В глубине роскошных апартаментов, которые были приготовлены для королевы Луизы, она нашла деликатно приготовленный подарок и средство превосходно обновить свой гардероб: “дюжину изящнейших платьев огромной ценности, на все возможные случаи, и дюжину красивейших, какие только можно было подобрать, шалей”[31].