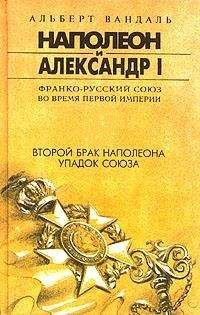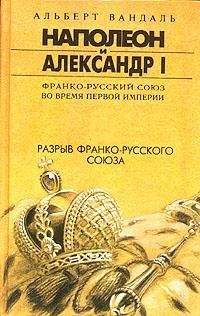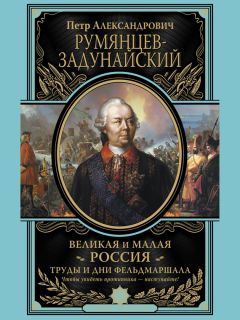Правда, император Александр обращался с нею как “самый любезный и самый внимательный рыцарь”[41]. Но легко было заметить, что его поклонение обусловливается ее положением; что оно оказывается скорее несчастной монархине, чем женщине, и что молодой государь не переживал уже былых впечатлений. Прибавим, что в это время сердце его было в ином месте. В Петербург приехала Нарышкина и не пропускала ни одного бала. Уверенная в своих чарах, она, по обыкновению, одевалась с умышленно горделивой простотой: почти без украшений, едва несколько драгоценностей; она не забывала только приколоть к своим чудным черным волосам несколько “незабудок” (ne m'oubliez pas). Нужен ли был Александру этот немой и трогательный призыв, чтобы понять ее и вернуться к ней? Пламенные взоры и компрометирующее внимание и без того всегда были направлены на ту, которая так скромно об этом просила. “Обожание, которого она искала, было так же явно, как и всегда. Рассказывают, что внимание осталось то же, а посещения даже участились”.[42] В состязании, на которое рассчитывали ее враги, фаворитка нашла случай вернуть и упрочить свое влияние.
Но, может быть, Александр, несмотря на то, что теперь он менее, чем при обыкновенных условиях, способен был увлекаться очаровательной королевой, позволил бы отдалить себя от Наполеона и привлечь на сторону Пруссии ради побуждений менее интимного свойства? Нужно сказать, что, хотя празднества как будто и поглощали все время, однако и политика не была совсем забыта. Она тоже имела место в разговорах царя с королем; но Александр, вовсе не показывая желания вступать в новые против нас соглашения, заставлял своих гостей выслушивать только советы покориться своей судьбе. Он не отказывался выхлопотать у Наполеона смягчения их участи, не переставал просить пожалеть их и отнестись к ним справедливо, но при этом убеждал их временно покориться требованиям победителя. Он не препятствовал им надеяться на лучшие дни, но умолял не портить будущего бесполезным и преждевременным восстанием. По словам некоторых очевидцев, он, будто, пошел еще дальше. Коленкур писал: “Не знаю, верить ли мне одной заслуживающей доверия особе, которая уверяла меня, что сама слышала, как на обеде у императрицы-матери император – разговаривая за кофе с прусским королем – при ней сказал ему, что географическое положение Пруссии, равно как и разум, требуют, чтобы Пруссия, как и прежде, была прикреплена к системе Франции. Может быть, это было придумано для меня?”[43]. Как бы ни был справедлив в этом случае скептицизм посланника, однако, достоверно, что Александр, осыпая отъезжающих короля и королеву “самыми утонченными знаками дружбы”,[44] ничуть не поощрял их, – что бы ни случилось, – вмешиваться в волнения в Германии.[45] Так как Фридрих-Вильгельм покорно принял его советы, а угрожающий характер принятых Австрией мер всегда ускользал от него, то царь вообразил себе, что обеспечил мир на континенте, и успокоился на этом.
Послание из Вальядолида, призывающее его к дипломатическому содействию против Австрия и требующее угрожающей ноты, пришло в Петербург через несколько дней после отъезда прусских высочайших особ. Это было ударом грома на небе, на котором царь упорно не замечал ни одного облачка. Это требование и выраженное в нем стремление сделать союз деятельным и воинствующим, встревожили и смутили Александра. Он согласился говорить по этому вопросу с Коленкуром только после того, как приготовился к обсуждению и зрело обдумал свои мысли. Тогда он имел с посланником очень дружеское, но горячее и серьезное объяснение. “С тех пор, как я имею честь вести дела с императором Александром, писал Коленкур, никогда еще он не говорил так горячо”.[46]
Ввиду фактов, на которые ему указывали, Александр признал полезным предостеречь Австрию и принял в принципе торжественную ноту. Но он не согласился санкционировать тот шаг, который Наполеон считал необходимым, т. е. уполномочить посольства покинуть Вену, если нота не приведет к желанному результату. Ему казалось, что эта мера – обычный предвестник враждебных действий – может оскорбить, привести в отчаяние двор, который, по его мнению, был скорее неблагоразумным, чем злонамеренным. По его мнению, главной причиной тревог Австрии был страх, навеянный на нее извне; затем недостаток внимания к ней, одиночество, в котором держали ее во время переговоров в Эрфурте. Чтобы успокоить ее враждебное настроение, Александр по-прежнему советовал употреблять мягкие средства, применяемые нежной рукой. Против болезни, принимавшей острый характер, он все еще верил в силу успокоительных средств.[47] Если он и соглашался употребить то оружие, которое выковал Наполеон то только при условии притупить его острие. Кроме того, он желал, чтобы предлагаемый шаг был сделан не представителями двух дворов в Вене, а лицами более именитыми, с признанным опытом и тактом. По его мнению, отчего бы не возложить это на графа Румянцева, присоединив к нему, чтобы говорить от имени Франции, Талейрана, умеренность которого внушала царю полное доверие. Румянцев и Талейран могли бы исполнить или в Вене, или, – обратившись к Меттерниху, – в Париже данное им специальное поручение.
Поставив предварительно такое условие, Александр приказал отправить в Париж проект ноты, составленной совместно с Коленкуром, тщательно взвесив и смягчив ее выражения. В нем оба двора в достаточно строгих выражениях осуждали поведение австрийцев, и требовали, чтобы они разоружились или, по крайней мере, дали объяснения. Они указывали им скорее на нравственную ответственность, которую налагало на Австрию нападение, чем старались внушить страх пред материальными его последствиями. В ноте подразумевались взаимные военные обязательства России и Франции, но не говорилось, в чем они заключаются; в ней не содержалось положительной, формальной угрозы, которая только и могла повлиять на Австрию и заставить ее отказаться от войны[48].
Одновременно с нотой Александр написал Румянцеву, дабы посвятить его в свои намерения. Его письмо было очень длинно, – “целый том”, как говорил он. Написанное всецело его рукой, и, по его обыкновению, карандашом, оно раскрывает его сокровенные мысли; разоблачает его сильнейшее желание избегнуть войны; его разногласие с Наполеоном относительно средств предупредить ее; его упорное непонимание истинных намерений Австрии – словом, его самые искренние убеждения и его заблуждения.
Император Наполеон говорит царь, заинтересован в том, чтобы знать положительным образом намерения венского двора. Он желает добиться от него категорического ответа, и, в случае, если ответ не будет удовлетворительным, хочет, чтобы наши миссии получили приказание покинуть Вену. Что касается меня, я думаю, что не подлежит спору, что знать истинные намерения Австрии существенно важно; но, так как цель, которой желательно достигнуть есть сохранение мира, то я считаю столь же существенно важным, чтобы поведение, которого мы будем держаться, соответствовало этой цели. Наилучше составленная, наиболее убедительная, самая успокоительная для Австрии нота, если она будет закончена угрозой отозвать миссии, может испортить, благодаря этому концу, все то хорошее, чего можно было бы ожидать от ее содержания. Достоверно, что поведение Австрии во многом обусловливается ее оскорбленным самолюбием. Разве, нанося новое оскорбление ее самолюбию, можно надеяться помешать ей сделать то, чего избегнуть для нас крайне важно? – Итак, мое мнение таково: нота должна быть тщательно обдумана, убедительна, но, в особенности, обильна успокоительными для венского двора уверениями… Если он окажется недовольным, это послужит доказательствами, что, направляемый Англией, он всеми силами стремится к разрыву. Но не будем предоставлять каким-то Анштету (это была фамилия поверенного в делах России в Вене) и Андреосси судить о том впечатлении, какое произведут на венский кабинет слова, с которыми мы к нему обратимся; предоставим это самим себе или людям, которые вполне пользуются нашим доверием и оправдают его, как, например, вы и князь Беневентский. В наших интересах устранить или, по крайней мере, отдалить, насколько возможно, разрыв между Францией и Австрией, ибо, надо сознаться, что мы попадем в довольно затруднительное положение. Если Австрия нападет, мы будем вынуждены, в силу наших обязательств, обнажить шпагу; если же это сделает Франция, то, хотя наше соглашение и не налагает на нас в этом случае никаких обязательств, наше положение будет ничуть не лучше, ибо разгром Австрии будет действительным несчастьем, которого мы не можем не почувствовать”[49].