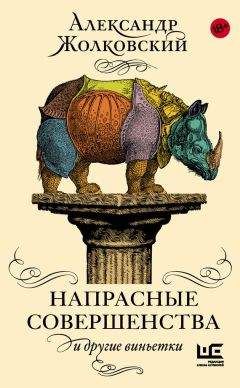Особенно пикантны и филологически любопытны, конечно, истории, в которых из глубин прошлого до нас доносятся — во всей своей не тронутой временем свежести и мгновенно опознаваемой достоверности — именно словесные сигналы.
Один старший коллега рассказывал, как во время лекционной поездки в Венгрию его поселили у моложавой вдовы, сдававшей комнаты приезжим. Услышав, что гость из России, она похвасталась, что знает несколько русских слов, привезенных мужем с завьюженного Восточного фронта.
— Хе-леб, мала-ко, йай-ка… — произнесла она с деревянной правильностью, — и еще одно очень странное слово, только он его не переводил.
— ??
— Щии-КОТ-наа, — старательно пропела вальяжная венгерка, и в ее облике на мгновение проступили черты какой-то вертлявой рязанской хохотушки времен поистине des neiges d’antan. — Хоть вы скажите мне, что это такое?
Однако вернемся к нашей истории. Тетенька была не первой молодости, но отнюдь не старуха, так что скорее всего она не застала не только Владимира Ильича, но и Иосифа Виссарионовича, — разве что самый чуток. Поэтому ее короткость с Владимиром Ильичом не надо понимать слишком буквально; сама она его не видела и претендовать на это не собиралась. Но дверь, внезапно распахнутая ее бесхитростной репликой, вела в обычно закрытые от внешнего глаза кельи ее Института (архив Максима Горького? отдел Демьяна Бедного? сектор Ивана Бездомного?), где покойник десятилетиями поминался с той неповторимой смесью подобострастия и интимности, о которой сегодня могут дать лишь отдаленное представление произносимые с сакральным придыханием имена — кем Анны Андреевны, кем Надежды Яковлевны, а кем и Лидии Корнеевны.
В рассказе одного моего любимого писателя — о том, как в конце 30-х годов его отца высылают из страны за иностранное происхождение (рассказ так и называется, «Отец») и семья сдает комнату некоему припадочному интеллигенту, который сначала платит, потом перестает платить, но не съезжает и пытается комнату оттяпать, — есть характерный металитературный пассаж:
В это время я заметил одну странную вещь. Я был единственный человек в нашей семье, которого квартирант стыдился. Увидев меня, он резко отворачивал голову, тогда как на других он просто не обращал внимания, хотя я был самым младшим. Навряд ли он подозревал, что я о нем когда-нибудь расскажу. Мне кажется, я смутно, но верно догадывался, в чем дело. Еще до того, как мы вступили в открытую войну, я иногда брал у него читать книжки. У него был огромный шкаф, наполненный разными чудесными книжками. То, что он делал, если и не противоречило тому, что делалось в жизни, противоречило тому, что было написано в этих книгах. Я это чувствовал, и он знал, что я это чувствую, и стыдился меня. Но он ошибался, тайну его падения знал и весь наш двор, хотя книг почти никто не читал, кроме детей.
Автор, как всегда, очень деликатен, но под сурдинку творит грозный суд над наперсниками разврата. С одной стороны, он еще пацан, в нем трудно заподозрить будущего литературного мстителя, догадка его лишь смутная, поведение же обидчика вроде бы обычное, постыдное на взгляд лишь одного-единственного мальчишки… С другой — автор, двоящийся между детской и взрослой ипостасями, на наших глазах осуществляет писательское возмездие, свидетельствуя от имени не столько своей семьи, сколько Литературы, носительницы вечных ценностей, разделяемых всеми — застенчивым преступником, мальчиком-книгочеем, воплощающим будущее, и народом, читающим если не в книгах, то в сердцах.
До какой-то степени правда торжествует даже на земле — семья, во главе с неукротимой матерью героя, в конце концов выигрывает судебную тяжбу; но отца мальчику увидеть больше не удается — тот так и умирает на чужбине. С повинным в этом главным Валтасаром всех времен и народов автор будет сводить морально-эстетические счеты всю жизнь, но для его неудачливого местного представителя ему хватает пары страниц. Тут ему везет, причем не только с решительной мамой и искусным адвокатом, но и с противником — на свою беду начитанным и потому втайне совестливым. Недаром, поверженный, тот вызывает у автора минутную жалость.
В моем опыте образованность оппонента вовсе не гарантирует стыдливости. Читаешь его, слушаешь, что он вещает, смотришь, как ханжит, авгурствует, передергивает и цензурирует, и думаешь: боже мой, я же тебе пропишу все это по первое число — мало не покажется и пожаловаться, что вдруг, будет некому. Вроде бы те же книжки читал, про то же пишет, ходит в вельвете и джинсах, живет аж на Святой Земле, а типичный совок…
Закончу строками еще одного любимого автора, писавшего немного о другом, но по сути о том же:
они и вправду очень жалки
………….
и пишут (и не из-под палки!)
и пишут против красоты
Яйцо — излюбленная тема пословичной мудрости. Ab ovo значит с самого начала; если вопрос слишком прост, он не стоит выеденного яйца; напротив, что появилось раньше, курица или яйцо, — неразрешимый парадокс.
Продолжать в таком духе можно долго, даже не обращаясь к золотой генитальной ветви этой мифологемы. Но я сосредоточусь на яйце как продукте питания, причем исключительно на сваренном не вкрутую яйце и способах его потребления, в частности его вскрытия, естественно предшествующего потреблению, и на особенностях соответствующего личного опыта.
Основополагающим в этой области является, конечно, конфликт между лилипутами и блефускуанцами, известный мне с детства, но, как выясняется, осмыслявшийся мной неправильно.
Мой завтрак, начиная с послевоенных лет и до недавних пор, когда в повестку дня встала диета, традиционно состоял из двух куриных яиц в мешочек. Женька Зенкевич пытался уесть меня, предлагая задуматься о количестве погубленных мной цыплячьих жизней, но безуспешно; да и теперь, в атмосфере самой трепетной заботы о правах животных, яйца многими числятся по вегетарианской части.
Ошибка же в интерпретации свифтовской контроверзы состояла в том, что я почему-то решил, что тупоконечниками были лилипуты, а остроконечниками — блефускуанцы. Сам я был (и остался) убежденным тупоконечником и, однако, полагал себя единомышленником лилипутов. Как показало недавнее обращение к тексту, я был неправ. Кстати, блефускуанцы-тупоконечники представлены у Свифта диссидентами (эзоповским аналогом изгнанных из Англии католиков), но получилось, что я, подсознательно взяв сторону оппозиционеров-эмигрантов, продолжал мысленно отождествлять себя с осмеянным в книге англиканским истеблишментом.